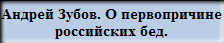Опубликовано в журнале:
«Новый Мир» 1999, №5
ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА
«Новый Мир» 1999, №5
ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

Андрей Борисович Зубов
(род. 16 января 1952, Москва, СССР) — российский историк, религиовед и политолог, доктор исторических наук, профессор МГИМО, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, один из авторов Основ социальной концепции Русской Православной Церкви.
Ответственный редактор двухтомника «История России. XX век».
(род. 16 января 1952, Москва, СССР) — российский историк, религиовед и политолог, доктор исторических наук, профессор МГИМО, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, один из авторов Основ социальной концепции Русской Православной Церкви.
Ответственный редактор двухтомника «История России. XX век».
Проф. Андрей Зубов. СОРОК ДНЕЙ ИЛИ СОРОК ЛЕТ?
(О первопричине наших нынешних бедствий)
(О первопричине наших нынешних бедствий)
Безумен человек, строящий дом свой на песке. “...и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое” (Мф. 7: 27). Наш дом еще не упал, но он угрожающе наклонился, весь пошел трещинами. Его крыша уже не защищает от непогоды, а печи почти не дают тепла. Уже отпали от него немалые куски стен, обнажив снегу и дождю внутренние комнаты, когда-то уютные, а ныне практически нежилые, запустелые. Понуры большинство обитателей нашего дома, в вечных поисках пропитания, в поисках работы проводят они жизнь. Многие из тех, кто посильней и поталантливей, бегут из него в чужое уютное жилье. Не рождаются в нашем доме дети, не слышен в нем голос жениха и невесты, не почтены заслуги и седины старца. Давно сломаны на дверях его запоры, и ослабели руки у защищающих. Кажется, один еще порыв урагана — и рухнет наша Россия.
О страшных итогах посткоммунистической семилетки (1991 — 1998) написано — не перечесть. Да и к чему писания, если каждый на себе испытал и продолжает испытывать нашу сегодняшнюю жизнь. И все же в который раз подведем итог: страна развалилась, вооруженные силы и оборонная инфраструктура разрушены и не восполняются, криминализация общества резко усилилась, народ нищает, хозяйство в упадке, рождаемость падает, смертность растет, талантливые и образованные люди десятками тысяч эмигрируют, золото — кровь экономики — на миллиарды долларов ежегодно вытекает из тела России. И все это в условиях непопулярности правителей, отсутствия стабильности в воспроизводстве власти, подозрения всех и вся в продажности, бесчестности, цинизме.
За семь лет несколько раз казалось, что вот-вот — и вылезем мы из упадка, что тяжкий переход от коммунистического тоталитаризма к либеральной демократии завершается. Однако новые удары судьбы пробуждали от розовых снов даже самых несгибаемых оптимистов и самых стойких ценителей свободы, обретенной после 1991 года. И они, сидя без зарплаты в своих плохо отапливаемых школах и больницах или прозябая у закрытых угольных копей, смотря на виллы и лимузины неизвестно откуда взявшихся нуворишей и на откормленные тела народных избранников, начинали терзаться сомнением: уж точно ли идем мы к либерально-демократическому будущему верной дорогой? Обвал августа 1998 года сомневающихся в однозначности ответа не оставил вовсе — Россия заблудилась на непроходных.
И самое время теперь задаться очень русскими вопросами: “кто виноват?” и “что делать?”.
* * *
На каждом углу говорят: виноват Ельцин, реформаторы-монетаристы. Они всё сделали не так, как надо. Люди старшего поколения часто добавляют в эту компанию и Горбачева. Он, Горбачев, разрушил по злому умыслу или по недоумию великую и богатую державу, а реформаторы приватизировали золотые обломки. Они обманули ожидания народа. Народ-то думал, что благодаря какой-нибудь хитроумной экономической модели его за пятьсот дней или около того введут в капиталистический рай, а реформаторы вошли в рай сами, а народ не пустили — не хватит, мол, места на всех, бедна Россия. Когда сокращали армию, закрывали военные заводы и институты, разгоняли КГБ и МВД, прекращали помощь “дружественным странам”, отпихивали дотационные республики СССР, люди думали — вот теперь народные денежки не будут тратиться незнамо где, а потекут в наши карманы. Увы! армии нет, союзники распущены, республики отпихнуты, аппарат тотальной слежки разрушен, продан за рубеж трехлетний стратегический запас оборотных средств бывших советских заводов, все так же качает движок пусть и подешевевшую на мировом рынке нефть, все так же роют в горах золото и редкоземельные металлы, добывают из якутской мерзлоты алмазы, рубят бесценные таежные леса, а в кармане постсоветского обывателя гуляет ветер среди семечной шелухи. Не надо быть Боклем или Адамом Смитом, чтобы дойти до вывода: страна разворована, а денежки поделили вовсе не поровну.
Сказочные, как по мановению волшебной палочки появившиеся богатства немногих еще более подкрепляют этот нехитрый вывод. Люди, распоряжавшиеся в посткоммунистическое семилетие властью, проводившие реформы, отнюдь не походят на жертвенных бессребреников, подвижников идеи. Они богаты и благополучны. И в разоренной, разрушенной, полуголодной стране это благополучие новых демократических властителей вопиет к Небу и обличает само себя.
И все же подождем выносить обвинительный приговор, а себя удобно считать жертвой. Бедный российский обыватель — каждый из нас с вами, читатель, — окажись он у рычагов власти или у “трубы”, как он поведет себя? Не превратимся ли и мы очень скоро в таких же циничных взяточников и хищников “с волчьим сердцем”? Может быть, симптомы этой сердечной болезни можно обнаружить не только у новых, но и у “старых русских”? Да и кто эти пресловутые “новые русские”? Разве они не кость от кости, не плоть от плоти русского народа? Разве пришли они из-за моря или от дальних гор? У каждого почти из нас кто-то из друзей, родственников, соседей превратился вдруг, незаметно в такого “нового русского” национального или местного масштаба. Не говорит ли это, что, по сути, они и мы — одно.
В недавно написанной книге “Россия в обвале”1 А. И. Солженицын делает несколько важных заметок, характеризующих состояние нашего народа, звучащих особенно набатно в устах русского патриота, восточнославянского этноцентриста:
“Сколько ни ездил я по областям России, встречался со множеством людей — никто ни в личных беседах, ни на общественных встречах, где высказывались самые многосотенные жалобы на современную нашу жизнь, — никто, никто, нигде не вспомнил и не заговорил: а каково нашим тем, отмежёванным, брошенным, покинутым?.. За чужой щекой зуб не болит. Горько, горько... Мы утеряли чувство единого народа” (стр. 68 — 69).
“Беженцы в своих многочисленных бедствиях встречают не только бесчувствие властей, но — равнодушие или даже неприязнь, враждебность от местного русского населения... „Что приехали? нам самим жрать нечего!” В Чудове отключили к зиме отопление в беженских бараках. Пишут и о случаях поджога беженских домов. И это — самый грозный признак падения нашего народа. Нет уже у нас единящего народного чувства, нет благожелательства принять наших братьев, помочь им. Судьба отверженных беженцев — грозное предсказание нашей собственной общерусской судьбы” (стр. 70 — 71).
И в результате горькое разочарование писателя в возможности практической реализации дорогой ему идеи, залога государственного обновления России, — местного самоуправления: “О самоуправлении, как его устроить, — почти никогда не заговаривали, это — не в мыслях... „Мы всё ждём, кто б нас объединил”” (стр. 10). “Вот тут-то проступает болезненная русская слабость — неспособность к самоорганизации” (стр. 68).
Глаз писателя подмечает то, что в какой-то степени замечаем все мы в своей собственной каждодневности: мы равнодушны к чужому горю, эгоистичны в собственном достатке, мы редко объединяем наши силы для защиты законных наших интересов. От всеприятия, всеоткрытости русского человека и следа не осталось. Мы все — “новые русские”. Только те, кто сидят в “Audi” и ездят отдыхать на Бермуды, вполне раскрыли себя, а мы, в силу обстоятельств, мало проявляем свое “волчье сердце”. Нам Бог рогов не дал.
В апреле 1997 года мне пришлось осуществлять широкий социологический опрос, выяснявший бытийные ценности совершеннолетних обитателей России. Оказалось, что циников, уверенных, что надо жить только для себя, используя других людей как орудия собственного преуспеяния и удовольствия, в сегодняшнем российском обществе около 25 — 30 процентов. Примерно же две трети россиян (а опрос проводился по представительной общенациональной выборке) высказали убеждение, что жить надо для того, чтобы приносить добро и пользу другим (молодежь до 25 лет две эти позиции делит почти поровну)2. Казалось бы, наше общество не так безнадежно, как видится Солженицыну, но, увы, циники задают в сегодняшней России тон, а альтруистов почти что и не слышно. Они не выбирают себе подобных в депутаты и губернаторы, в профсоюзные лидеры и директора предприятий, не создают народные дружины для охраны порядка и группы контроля за деятельностью милиции и бюрократии. Они готовы сесть на рельсы, чтобы получить от власти задолженность по зарплате, но они не умеют и не хотят законным путем взять в руки власть и принять ответственность за судьбу России, да и за судьбы свои и своих детей. Нравственное большинство русского общества почему-то является ныне молчаливым большинством. И это — тоже симптом нашей болезненности.
Осмелюсь предположить, что, если бы за реформы в 1992 — 1993 годах взялись не Ельцин с Гайдаром, а совершенно иные люди, самые мудрые и безупречные, и они не много бы преуспели. Так же как нельзя австралийских аборигенов вдруг преобразить в рабочих детройтских автомобильных заводов и в законоответственных граждан штата Мичиган, так же и нельзя нас каким-то ловким приемом сделать гражданами стабильной и процветающей парламентской демократии.
Проницательный очевидец великой русской катастрофы 1917 — 1922 годов митрополит Вениамин Федченков приводит такой характерный для 1918 года разговор в третьеклассном вагоне: “„Кто Бога видал?!” — торжественно бросил в толпу попутчиков солдат-богохульник. И вдруг какая-то женщина отпалила ему: „Рылом не вышел, ока-я-нный, Бога-то видать!””3 Грубо — но точно. Боюсь, что для получения билета в приличное общество мы тоже “рылом не вышли”.
“Ка-аак!!!” — предвижу я возмущенный крик читателя. Но то, что я сказал, — это не шутка дурного вкуса, не бессердечный эпатаж и не дурацкое фиглярство. Это — боль. И своей болью я хотел бы поделиться, ибо думаю, что боль эта — наша общая.
Нет, не всегда русские люди были столь жестокосердны, столь холодны к чужой беде, столь не способны к самоорганизации жизни и труда, как ныне. Новгородцы артелями осваивали Север, казаки с незапамятных времен создавали поселения на южных и восточных окраинах Руси. Да и в последние десятилетия той, старой, России не действовали ли по всей стране земские учреждения, народные кассы, различные добровольные объединения от религиозных до студенческих и рабочих союзов? Не показывали ли чудеса взаимовыручки старообрядцы, не процветало ли меценатство? Нет, тогдашнее русское общество отнюдь не было безупречным, очень много было в нем темного, мрачного, нелепого. Но где человек и где народ без дурных свойств и черт характера? В нашем падшем мире таких совершенных людей и народов нет и быть не может. Но если русский народ прошлых столетий был нормален, то есть соответствовал более-менее норме человеческого общежития, то наш нынешний народ глубоко болен. Его пассивность перед ложью, несправедливостью, жестокостью, чужой бедой и собственной неприкаянностью, его невероятная взаимоотчужденность, неспособность к самоорганизации — все это симптомы тяжкой болезни народной души.
Всем известно, что болеют люди, но, увы, болезням подвержены и целые народные организмы — и не только пандемиям вроде чумы или черной оспы, но и болезням психическим. Как иначе, нежели массовым помешательством, можно назвать энтузиастическую поддержку Адольфа Гитлера и нацистского движения в Германии позорного ее двенадцатилетия? Как образованные и сентиментальные немцы могли одобрять и творить планомерное уничтожение миллионов евреев и цыган, порабощение славянства, кровавую бойню по всему периметру своих границ ради какого-то маниакально желаемого Lebensraum, без которого нынешней Германии живется совсем неплохо? Как могли недавно уничтожить чуть ли не каждого четвертого в своем народе камбоджийцы? Откуда вдруг проснувшаяся братоубийственная ненависть среди народов, веками живших бок о бок на берегах Великих Африканских озер, ненависть, за считанные месяцы унесшая сотни тысяч жизней в Руанде?
Всматриваясь в века человеческой истории, мы то тут, то там видим вдруг массовые проявления невероятной жестокости по отношению к себе подобным. И если от цифр историк переходит к конкретике, то у него часто недостает сил работать над документами от тошнотворного ужаса.
“С некоторых... сдирали кожу, а их тела скармливали собакам. У других отрубали руки и ноги и бросали на дорогу, где они попадали под колеса телег и копыта лошадей. Многих заживо погребали. Одних детей убивали на груди матерей, а других разрывали, как рыбу. Вспарывали животы беременных женщин, вытаскивали неродившихся детей и бросали им в лицо. Некоторым разрезали животы и сажали туда живых кошек, отрубая жертвам при этом руки, чтобы они не могли их вытащить...”4 — это из описания очевидцем еврейского погрома, учиненного по повелению Богдана Хмельницкого на Украине в 1648 — 1649 годах.
“А народ, бывший в нем (в городе. — А. З.), он вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими” — это из Второй книги Царств (12: 31) о деяниях царя израильского Давида над покоренной им Раввой Аммонитской.
Когда один человек учинит над другим такую невероятную патологическую жестокость, его считают маньяком, отлавливают как бешеное животное и, как правило, уничтожают или запирают в сумасшедшем доме. А если так ведет себя нация, этнос, религиозное или социальное сообщество?
Но даже если душегуб или лихоимец избежит поимки и возмездия, разве сможет он спокойно есть хлеб свой и ласкать детей своих? Разве “мальчики кровавые” встают в глазах только героев пушкинских трагедий, а Рок и девы-эвмениды властны лишь на подмостках античной сцены? Разве только на библейских страницах вопиет кровь убитого, пролившаяся на землю, и разве лишь в египетском царском поучении XXII века до Р. Х. актуальны слова: “не убивай, сын мой, нехорошо это для тебя” (Merikara, 48)? О, совсем не случайно великий Толстой выбрал эпиграфом к своему лучшему роману слова Божии (Рим. 12: 19): “Мне отмщение, и Аз воздам”.
Закон воздаяния — великий и вечный закон. Теист, верующий в личного Бога — Судию мира, считает Его хранителем и вершителем этого закона. Буддист, агностик, стоический мудрец считает закон воздаяния столь же естественным, как и закон всемирного тяготения. Но пренебрегать этим всеобщим законом, а тем более отрицать его, и для того и для другого — верх глупости.
Трагедия Анны Карениной не в том, что от дури она полезла под поезд, вместо того чтобы спокойно ехать к Вронскому или затеять другую интрижку. Трагедия Анны в том, что она сознавала неотвратимость страшного воздаяния за измену мужу, но страсть влекла ее к любовнику, а противостать страсти не хватало волевых сил.
Да что роман, пусть даже и прекрасный. За несколько дней до расстрела, на прогулке во дворе иркутской тюрьмы, Верховный правитель России адмирал Колчак говорил Анне Тимиревой, оставившей ради него своего мужа и разбившей семью адмирала, подругой жены которого была она с 1915 года: “Я думаю — за что я плачэ такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачэ за Вас... Ничто не дается даром”.
Проведя после той февральской бессудной расправы 1920 года сорок лет по лагерям, тюрьмам и ссылкам, потеряв единственного ребенка (сына от первого мужа — контр-адмирала Сергея Тимирева), двадцати четырех лет застреленного чекистом в затылок на Бутовском полигоне 28 мая 1938 года, Анна Васильевна подводила и свой итог: “Что ж, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата”5. Шекспир и Софокл превращаются в беллетристику перед такими судьбами, такими словами.
Как наивен и глуп разбойник или прелюбодей, если он полагает, что “все обойдется”. Не обходится никогда. Только в нравственном законе, в отличие от некоторых законов физических, момент преступления и момент воздаяния могут быть разделены годами, десятилетиями и даже поколениями. За злодеяния страдают не только сами злодеи, но и их дети, и их внуки. Десять заповедей, провозглашенных Моисею с вершин Синая, начинаются предупреждением: “...Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои” (Исх. 20: 5 — 6).
Несправедливости в этом нет никакой. Мы же гордимся своими отцами и своими детьми. Следовательно, считаем их не чуждыми самим себе. Да так оно и есть — они наш род. Ребенок — не что иное, как семя отца и кровь матери. Все остальное — пища. Он, ребенок, — плоть от плоти и кость от кости нашей. Мы передаем ему в наследство наше имущество или наши долги. Мы передаем ему и самих себя и в хорошем, и в плохом: наши генетические болезни и наши способности, наши ошибки и наши победы. Мы воспринимаем как естественное, что от сифилитика рождается больное потомство. От убийцы, вора, прелюбодея тоже родятся больные дети. Только язвы их могут и не быть видимы, но от этого они не будут меньше мучить их.
Так же точно, как наследуются последствия дел предков потомками в семье, в роде, наследуются они и в большой семье — в народе и даже в человечестве в целом. Потому-то и волнуют нас события, происходящие в Руанде или в Камбодже, что интуитивно ощущаем мы свою причастность им. Мы гордимся великими гениями человечества — Эсхилом, Микеланджело или Гёте, мы наслаждаемся великими творениями их и им подобных, поскольку ощущаем, что и мы человеки, подобные им. Но еще более возрастает наша гордость, когда речь заходит о гениях нам соплеменных. Почему готовимся мы праздновать пушкинский юбилей, почему воздвигаем памятники Достоевскому или Гоголю, почему особо чтим память наших русских святых Серафима Саровского или преподобного Сергия? Не потому ли, что их слава, их гений, их подвиг касаются и нас, соплеменников их, родственников их, то есть всех тех, кто вышел из того же племени, рожден от того же народа?
Но неужели доброе от своего народа принимать мы будем и гордиться им не перестанем, а злое, совершенное отцами нашими, не переживем как свое и стыдиться его не будем? Кого обманем мы этим, кроме самих себя?
Русский народ совершил в ХХ столетии ужасающие злодеяния, затмевающие по своим масштабам и жестокости все, до того содеянное человечеством. И это нами как-то не сознается, выводы из этого не делаются. А между тем прошлые деяния наши идут вслед за нами, и не под бременем ли грехов дедов и отцов наших мы сгибаемся и падаем, и видим издали, как живут иные народы, а у самих себя создать ничего не можем — строим, созидаем, но все разрушается в прах.
Томас Карлейль не случайно начинает повествование о Французской революции с эпохи Людовика XV, с середины XVIII столетия. Ужасы той революции необъяснимы без анализа духовного и нравственного состояния предшествовавшей внешне блестящей эпохи. Так же как психиатр, сталкиваясь со случаем агрессивной патологии, ищет ее причины в прошлой жизни больного, так же и человек, желающий понять причины общественного недуга, вглядывается в десятилетия, предшествующие катастрофе.
О расцвете России в последние предреволюционные десятилетия сказано очень много. Но если расцвет — откуда тогда черная дыра 1917 года, в которую так безоглядно рухнула великая Империя и населявший ее “народ-богоносец”? В начале ХХ столетия Россия бесспорно переживала экономический подъем. Оправившись после поражения в войне с Японией, Империя смогла восстановить свое положение в “концерте держав”. С 1906 года в России работали парламентские учреждения, осуществлялись основные гражданские права. Если бы не война… Но как раз тяготы войны и показали, что во внешне расцветающем обществе таится роковая червоточина, не позволяющая плоду созреть.
Когда мы ныне полагаем, что экономические и политические успехи России сами по себе явятся залогом ее стабильного развития, мы опять совершаем ту же ошибку. “Под громким вращением общественных колес таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все”6. Эти слова Ивана Киреевского объясняют причины и великой русской смуты 1917 —1922 годов, и нынешние наши постоянные неудачи. Русская “нравственная пружина” вся изоржавела к началу ХХ века, и потому так легко надломилась она в годы испытаний.
Честные и трезво мыслящие люди видели это вполне явственно: “Влияние Церкви на народные массы все слабело и слабело, авторитет духовенства падал… Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва — холодным обрядом по привычке. Огня не было в нас и в окружающих. Пример о. Иоанна Кронштадтского был исключением… как-то все у нас „опреснилось”, или, по выражению Спасителя, соль в нас потеряла свою силу, мы перестали быть „солью земли и светом мира”. Нисколько не удивляло меня ни тогда, ни теперь, что мы никого не увлекали за собою: как мы могли зажигать души, когда не горели сами?.. И приходится еще дивиться, как верующие держались в храмах и с нами... хотя вокруг все уже стыло, деревенело”7. Этой оценке митрополита Вениамина, в недалеком будущем главы военного духовенства армии генерала Врангеля, можно найти бесконечное число параллелей среди высказываний современников, как духовенства, так и мирян.
И это “одеревенение” Церкви проявилось немедленно в обществе после обрушения царской власти, поддерживавшей официоз православия.
“Мне невольно приходит на память один эпизод, весьма характерный для тогдашнего настроения военной среды, — писал в „Очерках русской смуты” генерал А. И. Деникин. — Один из полков 4-ой стрелковой дивизии искусно, любовно, с большим старанием построил возле позиций походную церковь. Первые недели революции... Демагог поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм — это предрассудок. Поставил самовольно в нем роту, а в алтаре вырыл ровик для... Я не удивляюсь, что в полку нашелся негодяй офицер, что начальство было терроризовано и молчало. Но почему 2 — 3 тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни? Как бы то ни было, в числе моральных элементов, поддерживающих дух русских войск, вера не стала началом, побуждающим их на подвиг или сдерживающим от развития впоследствии звериных инстинктов”8.
По данным военного духовенства, доля солдат православного вероисповедания, участвовавших в таинствах исповеди и причастия, сократилась после февраля 1917 года примерно в десять раз, а после октября 1917 года — еще в десять раз. То есть активно и сознательно верующим в русском обществе оказался в момент революции приблизительно один человек из ста.
Есть множество свидетельств широкой распространенности в русском обществе эпохи революции не просто равнодушия, а ненависти к вере и церкви. Эта ненависть не насаждалась большевиками — она была разлита в обществе, и большевики победили и вошли в силу потому, что их воззрения, методы и цели были вполне созвучны настроениям большинства русских людей.
До некоторой степени свидетельством этому могут быть результаты выборов во Всероссийское Учредительное собрание в ноябре — декабре 1917 года. За православные партии по всей России было подано, по подсчетам Оливера Радкея, 155 тысяч голосов. Еще 54 тысячи голосов было подано за партии старообрядцев и 18 тысяч — за иные христианские политические движения. То есть в обстоятельствах крайнего не только политического, но и нравственного антагонизма христианские партии привлекли менее полпроцента российского электората9.
Уже в январе 1918 года патриарх Тихон говорит о “жесточайших гонениях, воздвигнутых на Святую Церковь Христову”. “Благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных, или ограблению и кощунственному осквернению, чтимые верующим народом обители святые захватываются безбожными властителями тьмы века сего...”10 Ясно, что без поддержки народа только что захватившие власть в России большевики не могли бы чинить по всей стране подобные насилия над верой и Церковью, насилия, вскоре достигшие масштабов поистине апокалиптических.
Не большевики отвратили от Бога русский народ, но сами русские люди, отвергнув веру и Церковь, породили из себя большевизм или, если угодно, призвали большевиков, как когда-то наши предки призвали на княжение варягов. По духу призывающего избирается и призываемый.
Не могу согласиться с мыслью Святейшего Патриарха Тихона, обвинившего в своем знаменитом “Послании Совету Народных Комиссаров” во всех бедах, постигших Россию, большевиков: “Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния — убийство, насилия, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении грехами и преступлениями”11.
Почему после тысячелетия христианской проповеди на Руси, после веков существования православного царства остался наш народ “темным и невежественным”? Не есть ли эта его темнота и невежество страшное обвинение тем, кому Самим Создателем было сказано: “...идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам” (Мф. 28: 19 — 20)? Да и для тех, кто согласился быть и именоваться законом “верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры (православной. — А. З.)”, “блюстителем правоверия и всякого в Церкви святого благочиния” (Основные Государственные Законы, ст. 64), не является ли для них, Самодержцев Всероссийских, эта темнота и невежество народные в вопросах веры и нравственности тяжким обвинительным приговором? Не клялись ли они в Великой Успенской церкви Москвы во время священного обряда коронования, что будут править “к пользе врученных им людей и к славе Божией, яко да и в день суда Его непостыдно воздать Ему слово”?
Не падают ли убийства, насилия и грабежи, совершенные в годы революции “темным и невежественным” русским народом, на головы тех, кто, высоко поставленный Промыслом и освобожденный от гнета повседневных бытовых тягот, ленился класть душу свою за овец? Кто много раньше большевиков так часто давал народу камень вместо хлеба и змею вместо рыбы или не давал вовсе ничего, ни хорошего, ни дурного, всецело поглощенный своими заботами. Не с головы ли гниет рыба и не таков ли приход, каков поп? “Бездарное, последнее дворянство” — жестокий, но точный приговор Арсения Несмелова.
Боюсь, что неисчислимые страдания, лишения и ужасные смерти множества представителей высших сословий в годы революционного лихолетья — расплата за века их нерадения о долге правителей и пастырей. Большевики не в большей степени виновны в ужасном пароксизме народного организма, чем гной из застарелой, запущенной раны виновен в смерти больного от общего сепсиса. Не большевики за считанные дни своей власти развратили народ, но те, кто так правили им тысячелетие.
“Русь сорвалась, вскипела, „взвихрилась”. В ее злой беде много и нашей вины перед ней. Кто это совестью понял, тому уже не найти больше в прошлом ничем не омраченных воспоминаний... Скажем потому просто и твердо: хорошо мы жили в старой России, но и грешно”, — писал, подводя в германской эмиграции итог жизни, выходец из того самого “высшего класса” России Федор Степун12.
Да и сам народ — он отнюдь не только жертва дурного правления. В старой России, как и в любом сообществе, можно было найти и дурные и добрые примеры, и нравственное и безнравственное. До революции можно было “бывать в Оптиной”, и немало иных светильников добра были разбросаны по Руси, и немало людей ходило в их свете. Наконец, закон совести написан на “плотяных скрижалях сердца”. Сколь бы темен и невежественен ни был человек, он знает в совести своей, что хулить святыню, грабить, убивать, насильничать — это зло. И когда человек встает на путь грабежа, хулы, насилия, убийства, он с необходимостью выжигает в себе совесть, убивает Слово Божие, от рождения в нем пребывающее. Да и не самые дикие, не самые темные и невежественные составили страшный кулак большевистской революции и красного террора. А “дикие” вели себя подчас и иначе.
Основываясь на личных впечатлениях и на материалах “Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков”, И. А. Бунин писал в 1920 году: “Когда пришла наша „великая и бескровная революция” и вся Россия потонула в повальном грабеже, одни только калмыки остались совершенно непричастны ему. Являются к ним агитаторы с самым настойчивым призывом „грабить награбленное” — калмыки только головами трясут: „Бог этого не велит!” Их объявляют контрреволюционерами, хватают, заточают — они не сдаются. Публикуются свирепейшие декреты — „за распространение среди калмыцкого народа лозунгов, противодействующих проведению в жизнь революционной борьбы, семьи виновных будут истребляться поголовно начиная с семилетнего возраста!”— калмыки не сдаются и тут... Говорят, их погибло только на черноморских берегах не менее 50 тысяч! А ведь надо помнить, что их и всего-то было тысяч 250. Тысячами, целыми вагонами доставляли нам в Ростов и богов их — оскверненных, часто на куски разбитых, в похабных надписях Будд”13.
Отказывались брать земли баев и земледельцы Средней Азии. Понадобилась под страхом смерти вытребованная большевиками у верховного кази Бухары Шариджона Махдума Садризийо специальная фетва, именем Бога дозволявшая насильственный передел имуществ, чтобы аграрная революция началась в 1930 — 1931 годах в Маверенахре.
В России все было иначе. Народ не стал умирать за букву нравственного закона, как буддисты-калмыки, и не соблазнился по простоте лживыми объяснениями религиозного авторитета, как мусульмане Бухары. Нет, русский народ отбросил нравственный авторитет и заглушил в себе голос совести ради стяжания чужих имуществ. Напрасно епископ Уфимский Андрей Шаховской в 1918 году объявил об отлучении от причастия всех “грабителей чужих имений”. Имения продолжали грабить, легко отказавшись от Тела и Крови Христовых, а анафематствовавшего грабителей архиепископа Пермского и Соликамского Андроника Никольского зверски убили в июне 1918 года. Большевики ничего бы не добились, если бы русский народ ответил на их посулы так, как ответили калмыки или бухарцы. Но мы ответили иначе.
За радикальные революционные партии социал-революционеров и социал-демократов (большевиков) вместе с их этническими “филиалами” на выборах в Учредительное собрание было подано более тридцати миллионов голосов (то есть три четверти), в том числе за большевиков — почти 10 миллионов14. А ведь в программы именно этих партий входил важнейшей частью пункт о насильственной конфискации имений. “Русская деревня, — делает на основании электоральной статистики вывод американский ученый, — была охвачена страстным желанием завладеть господской землей, ничего не платя за нее. И сколь бы ни был юридически и нравственно справедлив принцип конституционных демократов, требовавший за отчужденные земли компенсаций для бывших владельцев, этот принцип имел следствием только возникновение непреодолимой преграды для работы этой партии в деревне”15.
И не следует думать, что от безысходного голода и нищеты решилась на грабеж русская деревня. Не безлошадная голь, но деревенские богатеи, “справные” мужики, кулаки и середняки, страстно жаждали помещичьей землицы даром. “Заводчиками всей смуты и крови всегда были сытые — крепкие мужики, одолеваемые ненасытной жадностью на землю и деньги... — писал очевидец революции в русской деревне И. Д. Соколов-Микитов. — В первые дни своеволия первый топор, звякнувший о помещичью дверь, был топор богача”16. Пройдет полтора десятка лет, и русский мужик во время раскулачивания и коллективизации поймет на своей шкуре верность старинной итальянской поговорки: “La farina del diavolo se ne va in crusca”. (Помол дьявола весь уходит в отруби). Тогда же, в 1917-м, о неизбежности наказания за преступление не помышляли.
Но преступление редко приходит одно. Подобно евангельским виноградарям, мы сказали: “Убьем наследника, и наследство будет наше”, и не только отбирали бесчисленные имения — земли, дома, заводы, деньги, имущества, вплоть до мебели, белья, книг, но нередко с надругательствами убивали и их владельцев. В какой-то одержимости безумной жестокостью для жертв изобретались фантастические казни, невероятно мучительные и унизительные. Не щадились даже могилы и склепы давно похороненных людей. Кости извлекали из гробниц, над набальзамированными телами глумились самым отвратительным образом. Примеров — бесчисленное множество. Достаточно прочесть книгу С. П. Мельгунова “Красный террор в России”, “Материалы комиссии” Деникина. Все преступления Богдана Хмельницкого на Украине или царя Давида в Равве Аммонитской затмеваются подвалами Чрезвычаек и преступлениями, совершенными “освобожденным народом” по всем городам и весям России.
Вот наугад фрагмент описания комиссии Рерберга, которая производила свои расследования немедленно после занятия Киева Добровольческой армией в августе 1919 года: “Весь цементный пол большого гаража (речь идет о “бойне” губернской киевской ЧК. — А. З.) был залит уже не бежавшей вследствие жары, а стоявшей на несколько дюймов кровью, смешанной в ужасающую массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос и другими человеческими остатками. Все стены были забрызганы кровью, на них рядом с тысячами дыр от пуль налипли частицы мозга и куски головной кожи. Из середины гаража в соседнее помещение, где был подземный сток, вел желоб в четверть метра ширины и глубины и приблизительно в десять метров длины. Этот желоб был на всем протяжении доверху наполнен кровью... В саду того же дома лежали наспех поверхностно зарытые 127 трупов последней бойни... Тут нам особенно бросилось в глаза, что у всех трупов размозжены черепа, у многих даже совсем расплющены головы... Некоторые были совсем без головы, но головы не отрубались, а... отрывались... Около упомянутой могилы мы натолкнулись в углу сада на другую, более старую, могилу, в которой было приблизительно 80 трупов. Здесь мы обнаружили на телах разнообразнейшие повреждения и изуродования... Тут лежали трупы с распоротыми животами, у других не было членов, некоторые были вообще совершенно изрублены. У некоторых были выколоты глаза, и в то же время их головы, лица, шеи и туловища были покрыты колотыми ранами. Мы нашли труп с вбитым в грудь клином. У нескольких не было языков. В одном углу могилы мы нашли некоторое количество только рук и ног. В стороне от могилы у забора сада мы нашли несколько трупов, на которых не было следов насильственной смерти. Когда через несколько дней их вскрыли врачи, то оказалось, что их рты, дыхательные и глотательные пути были заполнены землей. Следовательно, несчастные были погребены заживо и, стараясь дышать, глотали землю. В этой могиле лежали люди разных возрастов и полов. Тут были старики, мужчины, женщины и дети. Одна женщина была связана веревкой со своей дочкой, девочкой лет восьми...”17
“Бывало, раньше совесть во мне заговорит, да теперь прошло — научил товарищ стакан крови человеческой выпить: выпил — сердце каменным стало”, — делился опытом палач харьковской Чрезвычайки Иванович18.
Стоит ли после этого удивляться, что когда, например, части Кавказской Добровольческой армии генерала Врангеля в июне 1919 года вошли в Царицын, командующий столкнулся с огромными трудностями в организации гражданского управления освобожденным краем, так как “за продолжительное владычество красных была уничтожена подавляющая часть местных интеллигентных сил... все мало-мальски состоятельное или интеллигентное население было истреблено”19.
Сейчас выходят новые книги, описывающие злодеяния в тех губерниях, куда не дошли во время Гражданской войны белые войска. И все те же моря крови, жестокости невероятные, надругательства над честью и совестью20.
“Мы не ведем войны против отдельных лиц, — писал, объясняя своим содельникам принципы чекистской „работы”, Лацис. — Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора”21.
А в довершение к красному был еще и белый террор. И если командующие освободительными армиями старались действовать в рамках российского законодательства, то многие из союзных белых атаманов и на Северо-Западе, и на Юге, и особенно в Сибири и на Дальнем Востоке вели себя немногим лучше красных, разве что не с таким размахом и планомерностью и без крайних жестокостей к своим жертвам. Увы, грабежами и мародерством отличались не только казаки, но и некоторые белые генералы. Печальную славу приобрел, например, генерал Май-Маевский, отдавший освобожденный им Харьков “на поток и разграбление”.
“Каждый день — картины хищений, грабежей, насилий по всей территории вооруженных сил, — пишет 29 апреля 1919 года генерал Деникин жене. — Русский народ снизу доверху пал так низко, что не знаю, когда ему удастся подняться из грязи. Помощи в этом деле ниоткуда не вижу. В бессильной злобе обещал каторгу и повешенье. Но не могу же я сам, один ловить и вешать мародеров фронта и тыла”22. Полковой священник, бегущий с увещеваниями за обезумевшим солдатом-грабителем, — частый образ воспоминаний участников Белого движения.
А бывало и пострашнее: “На следующий день после занятия города (Ставрополя, освобожденного добровольцами 2 ноября 1918 года. — А. З.) имел место возмутительный случай, — вспоминает генерал барон Врангель. — В один из лазаретов, где лежало несколько сот раненых и больных красноармейцев, ворвались несколько черкесов и, несмотря на протесты и мольбу врачей и сестер, вырезали до 70 человек прежде, нежели, предупрежденный об этом, я выслал своего ординарца с конвойными казаками для задержания негодяев. В числе последних... находился один офицер...”23
К тому же Великая русская смута дала немало и просто вольных разбойников как идейных, вроде Нестора Махно, так и вовсе безыдейных. И всюду братская кровушка лилась рекой и головы падали несчитанно.
А за Гражданской войной начался “великий террор” молодого советского государства против крестьян и рабочих, против религиозных сообществ и беспартийных специалистов. Немного позже коса террора пошла по самим террористам, недавним идеологам и исполнителям массовых зверств. Ужасы ГУЛАГа и “больших домов” НКВД теперь известны каждому. Свершителями этих ужасов и зверств, как и бесчисленных преступлений Гражданской войны, были далеко не одни Ленины, Сталины, Дзержинские, Берии, коммунисты, или евреи, или латыши — большинство убийц и насильников, следователей и ВОХРа, палачей-садистов, стукачей и доносчиков были простыми русскими людьми. Да и те же Ленины и Сталины, коммунисты, латыши и евреи — разве не часть они нашего российского народа, разве не одна у нас судьба, не один путь? И если Исаак Левитан — великий русский художник, а Борис Пастернак — бесподобный русский поэт, то неужели отсечем мы от себя богоборца Емельяна Ярославского (Минея Губельмана), цареубийцу Якова Юровского или того же Лациса? И слава и позор у нас навек общие.
Но и к иным нациям относились мы так же свирепо и бесчеловечно, как к своей, российской. Когда в 1944 — 1945 годах русские войска вошли в Германию, Венгрию, Польшу, мы вели себя не как освободители от нацизма плененных им народов, а как дикая орда грабителей и насильников. Трудно говорить это, больно безмерно. Но это надо сказать. Вот несколько фрагментов из воспоминаний участника боев за Берлин, тогда молодого гвардии лейтенанта, а ныне одного из замечательных русских мыслителей Григория Померанца:
“Мы въезжаем в город Форст. Я иду выбирать квартиру. Захожу — старушка лежит в постели. „Вы больны?” — „Да, — говорит, — ваши солдаты, семь человек, изнасиловали меня и потом засунули бутылку донышком вверх, теперь мне больно ходить”... Ей было лет 60”. Другая остановка на ночлег, теперь в предместье Берлина Лихтенраде на вилле Рут. “Хозяйка Рут Богерц, вдова коммерсанта, была мрачной и подавленной; ее прекрасные темные глаза метали молнии. Прошлую ночь ей пришлось провести с комендантом штаба дивизии, представившим в качестве ордера пистолет. Я говорю по-немецки, и мне досталось выслушать все, что она о нас думает: „В Берлине остались те, кто не верил гитлеровской пропаганде, — и вот что они получили!” На первом этаже виллы стояли двухметровые напольные часы. Других в доме не осталось. „Мы издадим закон, чтобы меньших часов не производили, — говорила фрау Рут, — потому что все остальные ваши разграбили”... Обычно пистолет действовал, как в Москве ордер на арест. Женщины испуганно покорялись. А потом одна из них повесилась. Наверное, не одна, но я знаю об одной. В это время победитель, получив свое, играл во дворе с ее мальчиком. Он просто не понимал, что это для нее значило... Сталин направил тогда нечто вроде личного письма в два адреса: всем офицерам и всем коммунистам. Наше жестокое обращение, писал он, толкает немцев продолжать борьбу. Обращаться с побежденными следует гуманно и насилия прекратить. К моему глубочайшему удивлению, на письмо — самого Сталина! — все начхали. И офицеры, и коммунисты. Идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Это Маркс совершенно правильно сказал. В конце войны массами овладела идея, что немки от 15 до 60 лет — законная добыча победителя. И никакой Сталин не мог остановить армию. Если бы русский народ так захотел гражданских прав!”24
Молодая русская аристократка, княжна Мария Васильчикова, жившая в эмиграции в Германии и участвовавшая в антигитлеровском заговоре 1944 года, писала 31 марта 1945 года в своем дневнике, что волосы встают дыбом от рассказов о том, как советские поступают с женщинами в Силезии (массовое изнасилование, множество бессмысленных убийств и т. п.)25.
Никогда ранее, ни в 1814 году во Франции, ни в 1914 году в Восточной Пруссии, русский солдат не пятнал себя так тяжко, как в 1945-м. Уроки “гражданки”, опыт безбожия превратили благородного русского воина в свирепое, алчное и похотливое чудовище, потерявшее не только божеский, но и человеческий облик. Чего стоят одни массовые групповые изнасилования, начавшиеся во время штурма Зимнего в 1917 году26 и откликнувшиеся в покоренной Германии в 1945-м. Собакам, верно, тошно было бы смотреть на такое, а наши — и глядели, и делали.
Ни союзники на Западе, ни даже немцы в оккупированной Европе не действовали так отвратительно, как мы в Германии, а ведь мы пятьдесят лет называли себя освободителями Европы, забывая, что за это освобождение мы взяли неслыханную цену: от грабежей и насилий 1945 года до отторжения многих областей Польши, Германии, Чехословакии, Румынии, Финляндии и навязывания самим восточноевропейским народам на долгие десятилетия тоталитарного оккупационного режима, безбожия и классовой ненависти. Своим отношением к поверженному врагу мы опозорили нашу великую победу и еще более отягчили совесть народа.
* * *
А теперь подведем итог. В уходящем столетии мы как народ, российский народ, совершили тягчайшие преступления. Впервые в истории человечества осмелились мы восстать на Бога и семь десятилетий вести войну против Святыни — не против Церкви, не против какой-либо религии, а именно против Самого Творца мирозданья, против самой идеи божественного. Ни один народ, ни одна страна никогда не решались до нас на такое.
Лишь французы во время их Великой революции попытались было отвергнуть Бога — но, ужаснувшись, сам Робеспьер провозгласил в Конвенте 20 прериаля II года, или по-старому 8 июня 1794 года, культ Высшего Существа — l’Кtre Suprкme, подтвердил веру в бессмертие души и сжег картонную статую атеизма в Тюильрийском саду27. Прошло еще шесть лет, и 5 июня 1800 года консул Бонапарт обратился к миланскому духовенству со словами: “Никакое общество не может существовать без морали, а настоящая мораль немыслима вне религии. Следовательно, прочную и постоянную опору государству дает только религия. Общество, лишенное веры, похоже на корабль, лишенный компаса... Наученная своими несчастиями, Франция наконец прозрела; она осознала, что католическая религия подобна якорю, который один только может дать ей устойчивость среди обуревающих ее волнений”28.
Нам Бог, религия, нравственность не нужны были семьдесят лет, с 1917 по 1988 год. Мы боролись против Бога с неистовством необычайным, превозносясь выше всего, именуемого Богом или святынею. Но как раз к таким, как мы, обращены евангельские слова: если же кто скажет хулу на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем, но подлежит он вечному осуждению (Мф. 12: 32; Мк. 3: 29). И страшное осуждение это пало на наши головы.
Мы залили землю нашу братской кровью и осквернили ее на много поколений вперед. Страдания жертв, слезы вдов и сирот, последние стоны истаивающих от голода — они на нас. В России свершились небывалые мерзости и жестокости. А когда у нас достало сил и обстановка была подходящей, мы вынесли нашу злобу и бесчеловечную жестокость за границы России, излив ее на иные народы. Неужели все это возможно забыть? Как гулящей жене из притчи, “поесть и обтереть рот свой и сказать: „я ничего худого не сделала”” (Прит. 30: 20)? Нет, такого не будет, и надеяться нечего. Дети отвечают за грехи отцов. “Кто родится чистым от нечистого? Ни один” (Иов, 14: 4). Великого и страшного закона этого никто не отменял и не отменит никогда.
Причины наших сегодняшних неудач, причины нашей безмерной слабости, причины некачественности нашей демократии и уродливости нашего капитализма не в ошибках Горбачева, Ельцина или Гайдара, не в том, что демократия и капитализм “неорганичны” для русской души или что мы до них “еще не доросли”, нет. Причины нашей бедственности лежат в тех делах, которые мы и отцы наши сотворили в прошедшие десятилетия. И нет такой политической или экономической модели, которая могла бы сделать нынешнюю Россию процветающей и свободной. Нет и не может быть такого гениального политика, который бы ввел нынешний русский народ на равных в мировое сообщество наций. На челе нашем — каинова печать братоубийства и богоубийства. И путь с этой печатью только один — в геенну огненную. Воистину, “оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его” (Иов, 4: 8).
* * *
И все же, пока жив человек, он не должен отчаиваться. Сколь бы ни были тяжки грехи, сама длящаяся его жизнь есть свидетельство надежды, свидетельство того, что Бог еще видит для грешника возможность исправления. Прошлую вину всегда можно изгладить, если страстно, в полноте сердца пожелать этого. Но для такого изглаживания прошлого обязательно, во-первых, осознание прошлых преступлений именно как преступлений, а во-вторых, ненависть к этим преступлениям, к себе самому как к их свершителю и жгучий стыд за содеянное. Именно это состояние наименовали греки metanoia — изменение ума, а наши предки перевели словом покаяние.
Покаяние — это целая наука, и счастлив тот человек, который с детства навык в ней. Он знает, что уничтожиться зло может только искренней и ясной просьбой о прощении. Злодей, дабы перестать быть злодеем, должен при внутреннем желании к исправлению ясно и явно просить о прощении того, кому причинил он зло. Как, казалось бы, просто сказать “прости меня” — и как невероятно трудно искренно это сделать. Легче камни ворочать. Зло защищает себя, и кающемуся всегда надо немалым волевым усилием разрушать эти линии обороны, воздвигнутые из тщеславия, самолюбия, гордости, боязни “потерять лицо”, “осквернить память прошлого”. Но зато какая радость и легкость наполняют сердце, когда “волшебные слова” сказаны с последней прямотой и прощение получено. Силы вливаются в раскаявшегося, в нем рождается явственное чувство свободы, подобное чувству полета во сне. Только плоды раскаяния — не сон, а явь. Покаяние — царский путь победы над всяческим злом и неправдой.
Но часто люди годами не могут решиться встать на этот путь и остаются в жестоком разладе с собой и с самыми близкими. Зло знает множество хитроумных способов, не допускающих рождения покаяния в человеке, и суммарно они могут быть сведены к двум приемам — попытке забвения злодейства или оправдания его. Пытаться забыть зло, надеяться, что его забудет пострадавший, — наивная, хотя и распространенная практика жизни. В действительности зло никогда не забывается до конца, если оно не раскаяно. Мелкие злодеяния, постепенно накапливаясь смертоносной радиацией в душах и объекта, и субъекта злодейства, вызывают в конце концов смерть любви, дружбы, доверия. Злодеяния крупные, возвращаясь то сном, то кошмарным бредом, полностью выжигают душу. И тогда человек начинает убеждать себя, что зло, которое сотворил он, есть вовсе не зло, а добро или хоть и зло, но обыкновенное, какое все совершают. Один из приемов безответственных психотерапевтов при снятии стресса — показать пациенту, что его желания или действия суть не патология, а норма: “все такие же”. И собственная совесть часто становится таким психотерапевтом. Но оттого, что зло назвать добром, добрее оно не станет, да и распространение своего зла на всех сути зла нисколько не меняет. Такие психотерапевтические методы — наркоз, анальгин, но отнюдь не лечение болезни. Зло лечится только покаянием в нем, так же, как больной зуб — визитом к стоматологу, а не жеванием обезболивающих таблеток.
Мы совершили в недалеком прошлом невероятные злодеяния и преступление всех возможных человеческих законов. Возьмем десять заповедей Моисеевых, какая из них не нарушена бесчисленное число раз не отдельными ворами и татями, не горсткой безумцев богохульников — такие действительно встречались во все века, — но всем государством нашим, всем почти нашим обществом, оправдывавшим, поддерживавшим и использовавшим злодеяния власти в своих личных интересах? И по закону человеческому, и по Божескому за соделанные нами и отцами нашими преступления мы тысячекратно повинны смерти. Но Россия еще жива, и более того, не нашим усилием, но вполне чудесно освобождена от семидесятилетней безбожной и человеконенавистнической коммунистической тирании. Означает ли это освобождение прощение? Нет. Нельзя простить того, кто о прощении и не думал просить. Данный нам дар — это не дар прощения, но дар возможности осознать свои грехи и раскаяться в них. Совсем не случайно Перестройка началась с фильма Тенгиза Абуладзе и с “Архипелага” Александра Солженицына — рассказ об ужасах советских застенков был исполнением обета, данного Богу в “раковом корпусе”, а ключевыми в “Покаянии” стали слова старухи о возвратной “дороге к храму”. Ведь покаяние — это не только средство прощения греха, но и единственный путь возвращения человека к поруганному им Творцу его.
И точно, в 80-е годы мы проиграли войну не мировому сионизму, не капитализму, не Соединенным Штатам, не НАТО. Мы проиграли войну Богу, мы капитулировали перед Ним. И возникший из небытия, опять же в чудесно малые сроки, некогда с великими хулениями взорванный храм Христа Спасителя есть зримый символ Его победы и полного поражения апокалиптического красного зверя с именами богохульными, который есть мы.
Ныне три пятых граждан России считают себя верующими, каждый второй объявляет себя православным христианином, каждый восьмой раз в месяц или чаще приходит в молитвенное собрание единоверцев — в церковь, мечеть, синагогу. Для этой части нашего общества слова о покаянии понятны и конкретны, когда речь идет о них самих. Да и многие из еще не нашедших своего “пути к храму” знают на опыте, сколь чудесно меняет жизнь глубокое и искреннее раскаяние.
Но войну Богу и правде Его проиграл не каждый из нас по отдельности, но все мы вместе. Эту войну проиграл весь народ русский, в 1917 году восставший не столько против царя, помещиков и капиталистов, сколько против Бога и Его абсолютных законов. Расправа со старой властью, с высшими сословиями, уничтожение всех личных и имущественных прав были частными проявлениями богоборчества. “Если Бога нет, то все дозволено”, — сказанные героем Достоевского слова эти стали, по сути, главным лозунгом революции.
Конечно, не все, далеко не все русские люди сделались богоборцами и законопреступниками. Но значительная часть — стала, а еще большая, проявив преступную теплохладность и трусость, пыталась занять нейтральную позицию или “встать над схваткой”. “Разве мы в те самые дни (лета 1918 года. — А. З.) много думали... о междоусобной братской борьбе? Где-то там кто-то дерется, далеко, нас это не задевает, ну и ладно... и по человеческой немощи я, как и очень многие военные, интеллигенты, духовные, укрывался за словом нейтралитет”, — искренно каялся через много десятилетий митрополит Вениамин29. “В Ростове и Новочеркасске было еще много немобилизовавшихся (в Белую армию. — А. З.) офицеров, гулявших по улицам и кутивших по ресторанам... — вспоминал депутат IV Государственной Думы и начальник хозяйственной части Добровольческой армии Л. В. Половцов. — В армию пошли случайно попавшие на Юг сербские офицеры, пленные чехи и беззаветно отдавали свою жизнь во имя общеславянских идеалов; а эти местные офицеры объявили себя нейтральными... Их трусость была жестоко наказана. Все, кто не умел хорошо укрыться, после отхода армии из Ростова были с величайшими издевательствами убиты. Таких оказалось, по счету большевиков, около трех тысяч”30.
Лишь горстка граждан стасемидесятимиллионной страны волей души, силой слова и острием штыка восстали против всеобщего безумия, богоборчества, беззакония. Маленькими группками, а то и поодиночке со всей Руси пробирались они на Дон к Каледину с одной мыслью — отдать жизнь за Россию. “Если нужно, — ответил на вопрос о вероятной неудаче Белого движения генерал Лавр Корнилов, — мы покажем, как должна умереть Русская Армия”. И — показали.
Почти всегда сдержанный, отстраненно-холодный, “с руками, заложенными за спину”, Иван Бунин обрел совсем иной, не свойственный ему тон, вспоминая солдат “Белого дела”:
“Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника, — да святится вовеки его память! Под триумфальными вратами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит. Где те врата, где то пламя, что были бы достойны этой могилы? Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее”31.
Старец митрополит Вениамин, вернувшись в 1947 году из эмиграции и доживая последние годы на покое в Псково-Печерском монастыре, отбросив обычную для него осторожность, так оценил, обращаясь к “красному читателю”, “Белое дело”, которое знал далеко не понаслышке: “Пусть белые даже не правы исторически, политически, социально. Но я почти не знаю таких белых, которые осуждали бы себя за участие в этом движении. Наоборот, они всегда считали, что так нужно было, что этого требовал долг перед Родиной, что сюда звало русское сердце, что это было геройским подвигом, о котором отрадно вспомнить. Нашлись же люди, которые и жизнь отдали за „единую, великую, неделимую”... не раскаивался и я... Много было недостатков и даже пороков у нас, но все же движение было патриотическим и геройским. Не случайно оно получило имя „белое”. Пусть мы были и сероваты, и нечисты, но идея движения, особенно в начале, была бела. Христиане мы плохие, христианство — прекрасно”32.
“Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди Русского народа людей, готовых восстать против безумия и преступлений советской власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую Родину — это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей Старого Континента, обреченный на колонизацию пришельцев с Запада и Востока. К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому Русскому народу”, — писал в Париже генерал Антон Деникин33. Они, те, кто остались лежать непогребенными в бескрайних южнорусских степях, те, кто были зверски казнены в Крыму в 1920 году, те, кто унесли горсти родной земли на чужбину в изгнание, — они принадлежат “к замученному, но великому Русскому народу”. Они принадлежат — а мы?
В схватке, сжигавшей Россию в 1917 — 1922 годах, не могло быть нейтральных. Все акценты, все цели были тогда сформулированы предельно ясно. На одном — безумие богоборчества, “пожар до небес”, позор Брестского мира, стакан человеческой крови и глумление над всеми вековыми установлениями человечества: “Иисуса на крест, а Варавву — под руки и по Тверскому... Богу выщиплю бороду, молюсь ему матерщиной...”34 На другом — вера или хотя бы почтение к вере и закону отцов; любовь к Отечеству; самопожертвование; пусть и искаженное трагизмом времени и извечным несовершенством падшей человеческой природы благородство мыслей и чувств.
Да, были революционеры-идеалисты вроде Кропоткина и Плеханова, но “под серпом и молотом” жить они не смогли. Да, были воры, бандиты и погромщики среди белых, но их, как правило, не прощали. Деникин прогнал из армии генерала Май-Маевского за допущение грабежей в Харькове, Шкуро вешал зачинщиков еврейского погрома в Воронеже; барон Врангель — “экспроприаторов” из Горской дивизии в Великокняжеской35.
Нравственное основание обнажилось в те годы с предельной для нашего несовершенного мира ясностью. И выбор был сделан каждым, свободный выбор. И большинство не пошло по пути Правды, Истины и Жизни, предпочитая или откровенное зло и беззаконие, или “нейтралитет”, как будто между законом и его попранием может быть нейтральная позиция.
Мы ныне стоим в конце того неправедного пути, который избрали деды наши восемь десятилетий назад. И мы будем содельниками их до тех пор, пока не изменим ум, пока не возненавидим “черное дело”, сотворенное отцами. Удивляться нашим постоянным послеперестроечным неудачам нет причины. Они в буквальном смысле слова закономерны. И Абсолютный нравственный закон будет бить нас вновь и вновь за дела отцов, пока мы не скажем Богу и тем, кто отдавали жизнь за его Правду: простите нас.
Прошлое нельзя забыть и невозможно оправдать, его можно только принять и, приняв, вновь, на этот раз верно, сделать выбор, столь неправильно осуществленный нами тогда.
В этом и есть смысл покаяния. Но покаяние народа не во всем подобно покаянию человека. Это не церковное таинство, или, может быть, не только церковное таинство, но и общественно-политический акт. Начавшись в сфере общественного сознания, он должен осуществиться в праве, в образовании, в идеологии, в политике и экономике, иными словами, во всей полноте жизни нашего общественного организма.
Мне уже приходилось писать, что сейчас мы живем в системе советского и постсоветского права, советского и постсоветского образования, советской и постсоветской идеологии, политики и экономики и из этой привычной системы выходить не желаем36.
Право — точный инструмент для ориентации в историческом пространстве — ясно указывает нам, что, поскольку ни один закон, действовавший до 1917 года, у нас не действует, а все советские законы, если они правомерно не отменены, действуют, мы — наследники разрушителей “старого мира”, а не его защитников. Для того чтобы расстаться с этим тлетворным наследством и вступить в права владения другим, историческим, необходимо формально-юридическое восстановление правопреемства с той Россией, которую наши деды разрушили “до основания”. Пока этого мы не сделали, мы — дети Ленина, а не Лавра Корнилова и дела Ленина — наши дела. “Дело Ленина в сердце каждом. Верность партии делом докажем”. Помните?
И как истинно хорошие дети, мы храним тело отца, его многочисленные статуи и изображения. Мы бережем его имя и имена его товарищей в названиях городов и областей, улиц и площадей. Где имена Корнилова и Деникина, Столыпина и Витте, полковника Нежинцева и генерала Духонина, Миллера, Кутепова, адмирала Колчака? Где доски и памятники на местах массовых казней, на стенах зданий ЧК и НКВД? Декоммунизация в нашем обществе, чуть начавшись в 1991 — 1994 годах, полностью захлебнулась. Успели кое-что переименовать в Москве и Петербурге, вернуть названия нескольким городам, воздвигнуть крест на Бутовском полигоне — и остановились. Санкт-Петербург у нас нынче окружен Ленинградской областью, Екатеринбург — Свердловской. А Вятке, Симбирску, Екатеринодару, Царицыну, Гжатску вовсе не пожелали вернуть имена.
Более того, президентским указом день 7 ноября объявили праздничным днем “национального примирения”. Это уже просто кощунство над памятью миллионов жертв беззаконного коммунистического режима, над теми героями, которые не пожалели своих жизней в неравном бою, пытаясь спасти честь России. Добро не может примириться со злом, Христос — с Велиаром. Либо белое дело — зло, а красное — добро, либо — наоборот. Нам необходимо определиться, сообразуя свой выбор с нравственным законом, со своей совестью. Иначе день национального примирения станет днем примирения со всем тем, что дал России Октябрьский переворот 1917 года. День 7 ноября мог бы быть днем национальной скорби, днем покаянным, когда бы мы вспоминали ошибки отцов и смиренно умоляли Спасителя о прощении. Примиряться же, как любят говорить сейчас, на нулевом варианте, без покаяния за соделанные беззакония, без горьких слез за моря пролитой нами крови, — тлетворно. Наши дети вырастут абсолютными циниками и вконец погубят и себя и страну, если мы не научим их различать добро и зло в делах человеческих. История должна учить, как-то даже стыдно об этом трюизме напоминать.
А что мы имеем сейчас?
Нравственная история Отечества не написана. Дела предков не выверены по шкале правды. Семьдесят лет мы лгали и учили лжи. И мы так свыклись с ложью, что перестали верить в правду, правда релятивизировалась. Своя правда — у белых, своя — у красных. В чем-то прав Николай II, а в чем-то убивший его Ленин. При таком подходе все хорошие и все плохие. Но как тогда мы сможем оценить настоящее и определить пути в будущее? Если не по компасу правды, то по какому иному прибору мы будем выверять курс корабля? По выгоде, доходу, богатству? Но и они у всех разные. Да и можно ли при такой шкале осуждать нуворишей, вкусно живущих и плюющих при этом и на нищающий народ, и на разваливающуюся страну? Своя рубашка ближе к телу — так, что ли?
Более полутора тысяч лет для европейца образцом нравственного прочтения истории являются исторические книги Библии. Единственный положительный герой в них — Бог. Все люди — несовершенны, грешны. Даже такие благоговейно почитаемые патриархи, как Авраам или Иаков, такие великие вожди и судьи народа, как Моисей и Гедеон, такие славные цари, как Давид и Соломон, — все они оступались, падали, впадали в тяжкие прегрешения. Об этих грехах древний летописец не боится говорить подробно. Он знает: чужие ошибки и их неизбежные последствия вразумляют и наставляют намного лучше, чем бесконечный панегирик. Более того, из этих ошибок выводятся последовавшие затем беды Израиля, а из преодоления ошибок — успехи и победы. Абсолютным же мерилом правды является Сам Законодатель — Творец бытия.
Древний летописец не устает говорить о каждом царе и правителе, стремился ли он, несмотря на все ошибки и заблуждения, к правде Божьей или всецело служил греху. Под каждое деяние, каждое правление подведена нравственная оценка. Не все согласятся со всем набором критериев, используемых летописцем, но метод в целом вряд ли вызовет возражения. Ведь и мы оцениваем свои дела и дела других постоянно.
И вот мы опять в 1917 годе. Хорошо было делать то, что делали революционеры? Хорошо было, например, конфисковывать имущества, проводить полную национализацию частной собственности, банковских вкладов, земли? Если хорошо, то что тогда возразим мы Гайдару, обесценившему практически до нуля вклады в 1992 году, или Чубайсу, приватизировавшему народное хозяйство по своему вкусу? Они вели себя, как достойные наследники экспроприаторов 1918 года. А если плохо делали революционеры, то почему мы должны с ними примиряться, а не осуждать эти дела и не исправлять их? То же можно сказать и о богоборчестве, об уничтожении духовенства и верующих мирян, о надругательствах над святынями всех религий. Если это хорошо, то продолжим в том же духе, а если плохо, то осудим свершителей таковых святотатств, ничего не скрывая и никого не обеляя. А массовые репрессии, террор, расстрел тысяч заложников, лагеря Соловков и Воркуты, Магадана и Норильска, а депортации народов, а надругательства над честью женщин в застенках НКВД, а пытки и избиения на следствии? И наконец, наши злодеяния в Польше и Прибалтике в годы революции и вторичной оккупации, в Германии и Венгрии в конце Великой войны. А Германия 1953-го, Венгрия 1956-го, Чехословакия 1968-го? Да всего не перечесть. Но в истории все это должно быть сказано без утайки, без стыдливой скороговорки, с точными фактами, датами, именами. И всему должна быть дана четкая нравственная оценка.
То же самое следует сделать и с историей дореволюционной. Все безнравственные деяния царей и их фаворитов, все неразумные и жестокие повеления должны быть вскрыты, рассказаны. Мы должны также показать те мотивы, которыми руководствовались и правители старой России, и ее красные властители, принимая свои решения. Из мотивов многое становится еще яснее, чем из свершившихся дел.
Но одновременно с написанием этой нравственной истории Отечества мы обязаны свершить суд над недавним прошлым. Над тем прошлым, которое довлеет нам.
Подобно немцам, осудившим свое нацистское прошлое, мы обязаны судить прошлое коммунистическое. Судить по тем законам, которые силой отвергли в 1917 году, чтобы делать то, что вздумается, — по этим законам должны судиться люди и деяния. Их уже нет в живых, этих великих преступников и злодеев, но приговоры им должны быть вынесены по всей форме. И тогда станет ясно, может ли область называться именем Свердлова, а областной город — именем Кирова, могут ли на главной площади России лежать в стеклянном гробу останки Ленина, а рядом выситься бюсты Сталина и Калинина. Тогда слова о заслугах Ленина или Сталина перед Россией, столь любезные сердцу некоторых политиков, будут восприниматься у нас так же, как в Германии воспринимаются сейчас слова о заслугах Гитлера и Геббельса. И так же, как немецких детей водят на экскурсии в Дахау и Заксенхаузен, показывать постыдные дела дедов, так же и у нас следует показывать Бутовский полигон и внутреннюю тюрьму Лубянки. И так же, как в Германии борцы с нацизмом стали национальными героями, а нацистские вожди — антигероями, так же следует сделать и нам. Граф Клаус Шенк фон Штауффенберг и Адольф Гитлер нравственно окрашены для современного немца во вполне определенные цвета, и их образы вполне соответствуют нравственному принципу совести. Тот немец, который назовет Штауффенберга мерзавцем, а Гитлера истинным вождем отечества, встретит не только всеобщее осуждение, но и предстанет пред уголовным судом.
У нас же авторы школьного учебника “История России. ХХ век” не стесняются поносить армии и политику Деникина и Колчака: “Пьянство, порки, погромы, мародерство стали обычными явлениями в Добровольческой армии. Ненависть к большевикам и всем, кто их поддерживает, заглушала все иные чувства, снимала все моральные запреты... Врываясь на территории „красных” губерний, казачьи части вешали, расстреливали, рубили, насиловали, грабили и пороли местное население. Эти зверства рождали страх и ненависть, желание отомстить, пользуясь теми же методами. Волна злобы и ненависти захлестнула страну”. И ни единого слова о застенках сотен ЧК, о массовых убийствах клириков и мирян, офицеров и купцов, учителей и дворян. То есть, если верить учебнику, в ужасах революции первенство принадлежит белым, красные только отвечали на насилие насилием — фантастическая для историка ложь. Белым вменяется в вину и глупость, что они пытались вернуть земли и имущества бывшим владельцам: “Правительство юга России потребовало предоставить владельцам захваченных земель треть всего урожая. Некоторые представители деникинской администрации пошли еще дальше, начав водворять изгнанных помещиков на старых пепелищах... На контролируемых ими территориях восстанавливались законы Российской империи, собственность возвращалась прежним владельцам” 37. Но как же иначе могли поступать честные люди с бандитски попранными законами и награбленными имуществами? Неужели согласиться на беззаконие, оставить похищенное в руках грабителей? Крестьянство в годы революции не пошло за белыми, забыв непреложность восьмой заповеди Божией “не укради”, и вскоре лишилось и своих, и награбленных имений. Разве белые должны были потакать пагубным страстям народа ради своей узкой выгоды? Неужели на так преподанном примере надеемся мы научить наших детей нравственному отношению к закону и чужому имуществу?
А примеров таких немало. До сего дня в степи, где “без крестов и священников” оставили мы лежать белых ратников, как и тогда, когда в 1924 году Бунин произносил свою знаменитую речь, “тьма и пустота”. Не пылает в их память вечный огонь, не отвален еще камень от гроба России...
* * *
Но крепнет надежда, что вступаем мы все же на путь изменения ума.
Так получилось, что злодеяния революции персонифицировались для русского общества в трагедии последнего нашего царя. Чудесно в конце 70-х годов были обретены останки его, его семьи и погибших с ним верных слуг, чудесно и вдруг возникшее всеобщее внимание к жертвам страшной расправы в подвале Ипатьевского дома. На строгий взгляд историка, Государь Николай II правитель далеко не безупречный: и его правление, и само его отречение много послужили гибели старой России. Но в трагедии смертного пути царской семьи отразились миллионы подобных трагедий бывших его подданных. В его слабостях — их слабости, в его вере — их вера, в его любви к Отечеству — их любовь, в его гибели — их гибель и изгнание, принятые, часто сознательно, за грехи отцов и дедов, того самого “последнего, бесплодного дворянства”. Но смерть и страдания жертв, если и попущены они Богом, отнюдь не смягчают вину их убийц и мучителей.
Пять лет назад Святейший Патриарх Алексий II произнес очень значительные слова: “Грех цареубийства, происшедший при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением и Божеского и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании... Мы призываем к покаянию весь наш народ, всех чад его, независимо от их политических воззрений и взглядов на историю, независимо от этнического происхождения, религиозной принадлежности, от их отношения к идее монархии и к личности последнего Российского Императора. Отрекаясь от грехов прошлого, мы должны понять: благие цели должны достигаться достойными средствами. Созидая и обновляя жизнь народа, нельзя идти по пути беззакония и безнравственности. Совершая любое дело, даже самое доброе и полезное, нельзя приносить в жертву человеческую жизнь и свободу, чье-либо доброе имя, нравственные нормы и нормы закона...”38
Прошло пять лет, и российская власть нашла в себе моральные силы совершить величайший акт покаяния и обращения к еще недавно попиравшейся правде. 17 июля 1998 года останки жертв убийства в Ипатьевском доме были с воинскими почестями преданы христианскому погребению в Петропавловском соборе. Во время похорон Президент России, в прошлом сам секретарь обкома и разрушитель Ипатьевского особняка, исповедал над гробами страдальцев и свою личную вину, и вину народа: “Долгие годы мы замалчивали это чудовищное преступление, но надо сказать правду: расправа в Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц нашей истории. Предавая земле останки невинно убиенных, мы хотим искупить грехи своих предков. Виновны те, кто совершил это злодеяние, и те, кто его десятилетиями оправдывал. Виновны все мы”39.
Что можно добавить к этим словам всенародной исповеди, самым, наверное, значительным словам, сказанным Президентом за всю жизнь. “Виновны все мы”. Слово покаяния произнесено. Оно произнесено над покрытым золотым Императорским штандартом гробом последнего русского царя, но сказано конечно же о всех погибших, о всех неправедно убиенных, униженных, разоренных, изгнанных и замученных. Не только в смерти одиннадцати ипатьевских страдальцев, но и во всех смертях и страданиях всей Великой Русской смуты, начавшейся в 1917-м и длящейся, может быть, и поныне, воистину “виновны все мы”. И мы, как всегда, вольны принять или отвергнуть это слово покаяния, насытить его делами или забыть среди сует жизни, счесть словом одного дня или девизом эпохи, устрашиться последствий раскаяния или мужественно предать себя суду Бога и истории.
С кем мы отождествим себя — с теми, кто принес в жертву своей алчности и изуверству “нравственные нормы и нормы закона”, или с теми, кто ценой жизни старался уберечь их, защищая Россию от соловецких отстрелов, от рвов Бутова, от Куропат, от Катыни? 17 июля 1998 года мы вплотную приблизились к тому моменту, когда выбор неизбежен. И с предельной ясностью надо сознавать: будущее России, ее процветание или упадок напрямую зависят от того или иного нашего выбора в этом, казалось бы, теоретическом, отвлеченном вопросе.
Люди не властны над прошлым, но они имеют власть над своим отношением к нему. И это отношение к прошлому определяет их грядущую судьбу. Выйдя из Египта, израильтяне могли со скорбью и отвращением вспоминать эпоху рабства, а могли и вздыхать по ней, скучая по “египетским котлам”. Израильтяне вздыхали и скучали, и путь в сорок дней до Земли Обетованной стал дорогой в сорок лет, пока кости всех, вышедших из Египта, не легли в пустыне.
Мы, оступаясь, падая, с трудом поднимаясь, бредем по пустыне уже восьмой год. Что ожидает нас? Бесконечный безрадостный путь, пока не вымрут все, на ком до третьего и четвертого рода лежит проклятье за дела дедов и отцов, или скорое избавление от уз прошлого, обретенное в покаянии, во всецелом изменении ума?
Последнее решение о грядущей нашей судьбе принимать нам.
Зубов Андрей Борисович родился в 1952 году в Москве. В 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений. С 1973 года работает в Институте востоковедения РАН. Ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук.
1 Солженицын А. Россия в обвале. М., “Русский путь”, 1998.
2 Подробный анализ опроса: Зубов А. Единство и разделения современного русского общества. Вера, экзистенциальные ценности и политические цели. — “Знамя”, 1998, № 11.
3 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М., “Отчий дом”, 1994, стр. 422.
4 Рабби Йосеф Телушкин. Еврейский мир. Иерусалим, “Гешарим” — Москва, “Еврейский университет”, 1992, стр. 167.
5 “Милая, обожаемая моя Анна Васильевна...”. М., “Прогресс”, “Традиция”, “Русский путь”, 1996, стр. 87 — 89. Подробнее об этом см.: Сафонов И. Одя. История одной недолгой судьбы. — “Новый мир”, 1997, № 6; Кублановский Ю. Анна Тимирева и адмирал Колчак. — “Новый мир”, 1997, № 6.
6 Киреевский И. Критика и эстетика. М., “Искусство”, 1979, стр. 157.
7 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох, стр. 122, 135.
8 Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., “Наука”, стр. 79 — 80.
9 См.: Radkey O. H. The Election to the Russian Constitutional Assembly of 1917. Cambridge, 1950, p. 16.
10 “Послания святителя Тихона”. М., “Просветитель”, 1990, стр. 14.
11 “Послания святителя Тихона”, стр. 22.
12 Степун Федор. Бывшее и несбывшееся. М., “Прогресс-Литера”, — СПб., “Алетейя”, 1995, стр. 11.
13 Бунин И. Великий дурман. М., “Совершенно секретно”, 1997, стр. 73 — 74.
14 См.: Radkey O. H. The Election to the Russian Constitutional Assembly of 1917, p. 16.
15 Ibid., p. 59.
16 Соколов-Микитов И. Крепота и тощета. — “Родина”, 1990, № 10.
17 Мельгунов С. Красный террор в России. М., “Постскриптум”, 1990, стр. 127 — 128.
18 Деникин А. Очерки русской смуты. Вооруженные силы Юга России. Берлин, 1926, стр. 129.
19 Врангель П. Н. Записки. Часть 1. — В кн.: “Белое Дело”. Избранные произведения в 16-ти книгах. Кн. IV. Кавказская армия. М., “Голос”, 1995, стр. 211 — 212.
20 См., напр.: Тимкин Ю. Смутное время на Вятке (1917 — 1918 гг.). Вятка, 1998.
21 Мельгунов С. Красный террор, стр. 44.
22 Письмо от 29 апреля 1919 года. Цит. по: “Известия”, 1994, 28 июня.
23 Врангель П. Н. Записки. Часть 1, стр. 115 — 116.
24 Померанц Г. Записки гадкого утенка. М., “Московский рабочий”, 1998, стр. 198 — 202.
25 См.: Васильчикова М. Берлинский дневник 1940 — 1945. М., “Наше наследие”, 1994, стр. 279.
26 Синегуб А. Защита Зимнего дворца. — В кн.: “Архив Русской революции, изданный Г. В. Гессеном”. Т. 4. М., “Терра” — “Политиздат”, 1991, стр. 192—194.
27 Карлейль Т. Французская революция. М., “Мысль”, 1991, стр. 516.
28 “История XIX века”. Под редакцией Э. Лависса и А. Рамбо. Т. 1. М., Соц.-экон. издательство, 1938, стр. 265.
29 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох, стр. 182, 233.
30 Половцов Л. Рыцари тернового венца. Париж, “Лев”, 1980, стр. 41 — 42.
31 Бунин И. Великий дурман. М., 1997, стр. 134.
32 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох, стр. 233.
33 “Белая Россия”. Альбом № 1. Нью-Йорк, 1937, стр. 3.
34 Есенин Сергей. Инония. 1918.
35 Врангель П. Н. Записки. Часть 1, стр. 180.
36 Зубов А. Правовое преемство и правовая идентичность в сегодняшней России. — “НГ-Сценарии”, 1998, № 7, 8 июля; Зубов А. Обращение к русскому национальному правопорядку как нравственная необходимость и политическая цель. М., 1997.
37 Данилов А. и Косулина Л. История России. ХХ век. Учебная книга для 9 класса. М., “Просвещение”, 1995, стр. 110 — 112.
38 Послание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви к 75-летию убиения Императора Николая II и его семьи.
39 Цит. по статье: Бесик П. Россия проводила в последний путь своего императора. — “Независимая газета”, 1998, 18 июля.
О страшных итогах посткоммунистической семилетки (1991 — 1998) написано — не перечесть. Да и к чему писания, если каждый на себе испытал и продолжает испытывать нашу сегодняшнюю жизнь. И все же в который раз подведем итог: страна развалилась, вооруженные силы и оборонная инфраструктура разрушены и не восполняются, криминализация общества резко усилилась, народ нищает, хозяйство в упадке, рождаемость падает, смертность растет, талантливые и образованные люди десятками тысяч эмигрируют, золото — кровь экономики — на миллиарды долларов ежегодно вытекает из тела России. И все это в условиях непопулярности правителей, отсутствия стабильности в воспроизводстве власти, подозрения всех и вся в продажности, бесчестности, цинизме.
За семь лет несколько раз казалось, что вот-вот — и вылезем мы из упадка, что тяжкий переход от коммунистического тоталитаризма к либеральной демократии завершается. Однако новые удары судьбы пробуждали от розовых снов даже самых несгибаемых оптимистов и самых стойких ценителей свободы, обретенной после 1991 года. И они, сидя без зарплаты в своих плохо отапливаемых школах и больницах или прозябая у закрытых угольных копей, смотря на виллы и лимузины неизвестно откуда взявшихся нуворишей и на откормленные тела народных избранников, начинали терзаться сомнением: уж точно ли идем мы к либерально-демократическому будущему верной дорогой? Обвал августа 1998 года сомневающихся в однозначности ответа не оставил вовсе — Россия заблудилась на непроходных.
И самое время теперь задаться очень русскими вопросами: “кто виноват?” и “что делать?”.
* * *
На каждом углу говорят: виноват Ельцин, реформаторы-монетаристы. Они всё сделали не так, как надо. Люди старшего поколения часто добавляют в эту компанию и Горбачева. Он, Горбачев, разрушил по злому умыслу или по недоумию великую и богатую державу, а реформаторы приватизировали золотые обломки. Они обманули ожидания народа. Народ-то думал, что благодаря какой-нибудь хитроумной экономической модели его за пятьсот дней или около того введут в капиталистический рай, а реформаторы вошли в рай сами, а народ не пустили — не хватит, мол, места на всех, бедна Россия. Когда сокращали армию, закрывали военные заводы и институты, разгоняли КГБ и МВД, прекращали помощь “дружественным странам”, отпихивали дотационные республики СССР, люди думали — вот теперь народные денежки не будут тратиться незнамо где, а потекут в наши карманы. Увы! армии нет, союзники распущены, республики отпихнуты, аппарат тотальной слежки разрушен, продан за рубеж трехлетний стратегический запас оборотных средств бывших советских заводов, все так же качает движок пусть и подешевевшую на мировом рынке нефть, все так же роют в горах золото и редкоземельные металлы, добывают из якутской мерзлоты алмазы, рубят бесценные таежные леса, а в кармане постсоветского обывателя гуляет ветер среди семечной шелухи. Не надо быть Боклем или Адамом Смитом, чтобы дойти до вывода: страна разворована, а денежки поделили вовсе не поровну.
Сказочные, как по мановению волшебной палочки появившиеся богатства немногих еще более подкрепляют этот нехитрый вывод. Люди, распоряжавшиеся в посткоммунистическое семилетие властью, проводившие реформы, отнюдь не походят на жертвенных бессребреников, подвижников идеи. Они богаты и благополучны. И в разоренной, разрушенной, полуголодной стране это благополучие новых демократических властителей вопиет к Небу и обличает само себя.
И все же подождем выносить обвинительный приговор, а себя удобно считать жертвой. Бедный российский обыватель — каждый из нас с вами, читатель, — окажись он у рычагов власти или у “трубы”, как он поведет себя? Не превратимся ли и мы очень скоро в таких же циничных взяточников и хищников “с волчьим сердцем”? Может быть, симптомы этой сердечной болезни можно обнаружить не только у новых, но и у “старых русских”? Да и кто эти пресловутые “новые русские”? Разве они не кость от кости, не плоть от плоти русского народа? Разве пришли они из-за моря или от дальних гор? У каждого почти из нас кто-то из друзей, родственников, соседей превратился вдруг, незаметно в такого “нового русского” национального или местного масштаба. Не говорит ли это, что, по сути, они и мы — одно.
В недавно написанной книге “Россия в обвале”1 А. И. Солженицын делает несколько важных заметок, характеризующих состояние нашего народа, звучащих особенно набатно в устах русского патриота, восточнославянского этноцентриста:
“Сколько ни ездил я по областям России, встречался со множеством людей — никто ни в личных беседах, ни на общественных встречах, где высказывались самые многосотенные жалобы на современную нашу жизнь, — никто, никто, нигде не вспомнил и не заговорил: а каково нашим тем, отмежёванным, брошенным, покинутым?.. За чужой щекой зуб не болит. Горько, горько... Мы утеряли чувство единого народа” (стр. 68 — 69).
“Беженцы в своих многочисленных бедствиях встречают не только бесчувствие властей, но — равнодушие или даже неприязнь, враждебность от местного русского населения... „Что приехали? нам самим жрать нечего!” В Чудове отключили к зиме отопление в беженских бараках. Пишут и о случаях поджога беженских домов. И это — самый грозный признак падения нашего народа. Нет уже у нас единящего народного чувства, нет благожелательства принять наших братьев, помочь им. Судьба отверженных беженцев — грозное предсказание нашей собственной общерусской судьбы” (стр. 70 — 71).
И в результате горькое разочарование писателя в возможности практической реализации дорогой ему идеи, залога государственного обновления России, — местного самоуправления: “О самоуправлении, как его устроить, — почти никогда не заговаривали, это — не в мыслях... „Мы всё ждём, кто б нас объединил”” (стр. 10). “Вот тут-то проступает болезненная русская слабость — неспособность к самоорганизации” (стр. 68).
Глаз писателя подмечает то, что в какой-то степени замечаем все мы в своей собственной каждодневности: мы равнодушны к чужому горю, эгоистичны в собственном достатке, мы редко объединяем наши силы для защиты законных наших интересов. От всеприятия, всеоткрытости русского человека и следа не осталось. Мы все — “новые русские”. Только те, кто сидят в “Audi” и ездят отдыхать на Бермуды, вполне раскрыли себя, а мы, в силу обстоятельств, мало проявляем свое “волчье сердце”. Нам Бог рогов не дал.
В апреле 1997 года мне пришлось осуществлять широкий социологический опрос, выяснявший бытийные ценности совершеннолетних обитателей России. Оказалось, что циников, уверенных, что надо жить только для себя, используя других людей как орудия собственного преуспеяния и удовольствия, в сегодняшнем российском обществе около 25 — 30 процентов. Примерно же две трети россиян (а опрос проводился по представительной общенациональной выборке) высказали убеждение, что жить надо для того, чтобы приносить добро и пользу другим (молодежь до 25 лет две эти позиции делит почти поровну)2. Казалось бы, наше общество не так безнадежно, как видится Солженицыну, но, увы, циники задают в сегодняшней России тон, а альтруистов почти что и не слышно. Они не выбирают себе подобных в депутаты и губернаторы, в профсоюзные лидеры и директора предприятий, не создают народные дружины для охраны порядка и группы контроля за деятельностью милиции и бюрократии. Они готовы сесть на рельсы, чтобы получить от власти задолженность по зарплате, но они не умеют и не хотят законным путем взять в руки власть и принять ответственность за судьбу России, да и за судьбы свои и своих детей. Нравственное большинство русского общества почему-то является ныне молчаливым большинством. И это — тоже симптом нашей болезненности.
Осмелюсь предположить, что, если бы за реформы в 1992 — 1993 годах взялись не Ельцин с Гайдаром, а совершенно иные люди, самые мудрые и безупречные, и они не много бы преуспели. Так же как нельзя австралийских аборигенов вдруг преобразить в рабочих детройтских автомобильных заводов и в законоответственных граждан штата Мичиган, так же и нельзя нас каким-то ловким приемом сделать гражданами стабильной и процветающей парламентской демократии.
Проницательный очевидец великой русской катастрофы 1917 — 1922 годов митрополит Вениамин Федченков приводит такой характерный для 1918 года разговор в третьеклассном вагоне: “„Кто Бога видал?!” — торжественно бросил в толпу попутчиков солдат-богохульник. И вдруг какая-то женщина отпалила ему: „Рылом не вышел, ока-я-нный, Бога-то видать!””3 Грубо — но точно. Боюсь, что для получения билета в приличное общество мы тоже “рылом не вышли”.
“Ка-аак!!!” — предвижу я возмущенный крик читателя. Но то, что я сказал, — это не шутка дурного вкуса, не бессердечный эпатаж и не дурацкое фиглярство. Это — боль. И своей болью я хотел бы поделиться, ибо думаю, что боль эта — наша общая.
Нет, не всегда русские люди были столь жестокосердны, столь холодны к чужой беде, столь не способны к самоорганизации жизни и труда, как ныне. Новгородцы артелями осваивали Север, казаки с незапамятных времен создавали поселения на южных и восточных окраинах Руси. Да и в последние десятилетия той, старой, России не действовали ли по всей стране земские учреждения, народные кассы, различные добровольные объединения от религиозных до студенческих и рабочих союзов? Не показывали ли чудеса взаимовыручки старообрядцы, не процветало ли меценатство? Нет, тогдашнее русское общество отнюдь не было безупречным, очень много было в нем темного, мрачного, нелепого. Но где человек и где народ без дурных свойств и черт характера? В нашем падшем мире таких совершенных людей и народов нет и быть не может. Но если русский народ прошлых столетий был нормален, то есть соответствовал более-менее норме человеческого общежития, то наш нынешний народ глубоко болен. Его пассивность перед ложью, несправедливостью, жестокостью, чужой бедой и собственной неприкаянностью, его невероятная взаимоотчужденность, неспособность к самоорганизации — все это симптомы тяжкой болезни народной души.
Всем известно, что болеют люди, но, увы, болезням подвержены и целые народные организмы — и не только пандемиям вроде чумы или черной оспы, но и болезням психическим. Как иначе, нежели массовым помешательством, можно назвать энтузиастическую поддержку Адольфа Гитлера и нацистского движения в Германии позорного ее двенадцатилетия? Как образованные и сентиментальные немцы могли одобрять и творить планомерное уничтожение миллионов евреев и цыган, порабощение славянства, кровавую бойню по всему периметру своих границ ради какого-то маниакально желаемого Lebensraum, без которого нынешней Германии живется совсем неплохо? Как могли недавно уничтожить чуть ли не каждого четвертого в своем народе камбоджийцы? Откуда вдруг проснувшаяся братоубийственная ненависть среди народов, веками живших бок о бок на берегах Великих Африканских озер, ненависть, за считанные месяцы унесшая сотни тысяч жизней в Руанде?
Всматриваясь в века человеческой истории, мы то тут, то там видим вдруг массовые проявления невероятной жестокости по отношению к себе подобным. И если от цифр историк переходит к конкретике, то у него часто недостает сил работать над документами от тошнотворного ужаса.
“С некоторых... сдирали кожу, а их тела скармливали собакам. У других отрубали руки и ноги и бросали на дорогу, где они попадали под колеса телег и копыта лошадей. Многих заживо погребали. Одних детей убивали на груди матерей, а других разрывали, как рыбу. Вспарывали животы беременных женщин, вытаскивали неродившихся детей и бросали им в лицо. Некоторым разрезали животы и сажали туда живых кошек, отрубая жертвам при этом руки, чтобы они не могли их вытащить...”4 — это из описания очевидцем еврейского погрома, учиненного по повелению Богдана Хмельницкого на Украине в 1648 — 1649 годах.
“А народ, бывший в нем (в городе. — А. З.), он вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими” — это из Второй книги Царств (12: 31) о деяниях царя израильского Давида над покоренной им Раввой Аммонитской.
Когда один человек учинит над другим такую невероятную патологическую жестокость, его считают маньяком, отлавливают как бешеное животное и, как правило, уничтожают или запирают в сумасшедшем доме. А если так ведет себя нация, этнос, религиозное или социальное сообщество?
Но даже если душегуб или лихоимец избежит поимки и возмездия, разве сможет он спокойно есть хлеб свой и ласкать детей своих? Разве “мальчики кровавые” встают в глазах только героев пушкинских трагедий, а Рок и девы-эвмениды властны лишь на подмостках античной сцены? Разве только на библейских страницах вопиет кровь убитого, пролившаяся на землю, и разве лишь в египетском царском поучении XXII века до Р. Х. актуальны слова: “не убивай, сын мой, нехорошо это для тебя” (Merikara, 48)? О, совсем не случайно великий Толстой выбрал эпиграфом к своему лучшему роману слова Божии (Рим. 12: 19): “Мне отмщение, и Аз воздам”.
Закон воздаяния — великий и вечный закон. Теист, верующий в личного Бога — Судию мира, считает Его хранителем и вершителем этого закона. Буддист, агностик, стоический мудрец считает закон воздаяния столь же естественным, как и закон всемирного тяготения. Но пренебрегать этим всеобщим законом, а тем более отрицать его, и для того и для другого — верх глупости.
Трагедия Анны Карениной не в том, что от дури она полезла под поезд, вместо того чтобы спокойно ехать к Вронскому или затеять другую интрижку. Трагедия Анны в том, что она сознавала неотвратимость страшного воздаяния за измену мужу, но страсть влекла ее к любовнику, а противостать страсти не хватало волевых сил.
Да что роман, пусть даже и прекрасный. За несколько дней до расстрела, на прогулке во дворе иркутской тюрьмы, Верховный правитель России адмирал Колчак говорил Анне Тимиревой, оставившей ради него своего мужа и разбившей семью адмирала, подругой жены которого была она с 1915 года: “Я думаю — за что я плачэ такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачэ за Вас... Ничто не дается даром”.
Проведя после той февральской бессудной расправы 1920 года сорок лет по лагерям, тюрьмам и ссылкам, потеряв единственного ребенка (сына от первого мужа — контр-адмирала Сергея Тимирева), двадцати четырех лет застреленного чекистом в затылок на Бутовском полигоне 28 мая 1938 года, Анна Васильевна подводила и свой итог: “Что ж, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата”5. Шекспир и Софокл превращаются в беллетристику перед такими судьбами, такими словами.
Как наивен и глуп разбойник или прелюбодей, если он полагает, что “все обойдется”. Не обходится никогда. Только в нравственном законе, в отличие от некоторых законов физических, момент преступления и момент воздаяния могут быть разделены годами, десятилетиями и даже поколениями. За злодеяния страдают не только сами злодеи, но и их дети, и их внуки. Десять заповедей, провозглашенных Моисею с вершин Синая, начинаются предупреждением: “...Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои” (Исх. 20: 5 — 6).
Несправедливости в этом нет никакой. Мы же гордимся своими отцами и своими детьми. Следовательно, считаем их не чуждыми самим себе. Да так оно и есть — они наш род. Ребенок — не что иное, как семя отца и кровь матери. Все остальное — пища. Он, ребенок, — плоть от плоти и кость от кости нашей. Мы передаем ему в наследство наше имущество или наши долги. Мы передаем ему и самих себя и в хорошем, и в плохом: наши генетические болезни и наши способности, наши ошибки и наши победы. Мы воспринимаем как естественное, что от сифилитика рождается больное потомство. От убийцы, вора, прелюбодея тоже родятся больные дети. Только язвы их могут и не быть видимы, но от этого они не будут меньше мучить их.
Так же точно, как наследуются последствия дел предков потомками в семье, в роде, наследуются они и в большой семье — в народе и даже в человечестве в целом. Потому-то и волнуют нас события, происходящие в Руанде или в Камбодже, что интуитивно ощущаем мы свою причастность им. Мы гордимся великими гениями человечества — Эсхилом, Микеланджело или Гёте, мы наслаждаемся великими творениями их и им подобных, поскольку ощущаем, что и мы человеки, подобные им. Но еще более возрастает наша гордость, когда речь заходит о гениях нам соплеменных. Почему готовимся мы праздновать пушкинский юбилей, почему воздвигаем памятники Достоевскому или Гоголю, почему особо чтим память наших русских святых Серафима Саровского или преподобного Сергия? Не потому ли, что их слава, их гений, их подвиг касаются и нас, соплеменников их, родственников их, то есть всех тех, кто вышел из того же племени, рожден от того же народа?
Но неужели доброе от своего народа принимать мы будем и гордиться им не перестанем, а злое, совершенное отцами нашими, не переживем как свое и стыдиться его не будем? Кого обманем мы этим, кроме самих себя?
Русский народ совершил в ХХ столетии ужасающие злодеяния, затмевающие по своим масштабам и жестокости все, до того содеянное человечеством. И это нами как-то не сознается, выводы из этого не делаются. А между тем прошлые деяния наши идут вслед за нами, и не под бременем ли грехов дедов и отцов наших мы сгибаемся и падаем, и видим издали, как живут иные народы, а у самих себя создать ничего не можем — строим, созидаем, но все разрушается в прах.
Томас Карлейль не случайно начинает повествование о Французской революции с эпохи Людовика XV, с середины XVIII столетия. Ужасы той революции необъяснимы без анализа духовного и нравственного состояния предшествовавшей внешне блестящей эпохи. Так же как психиатр, сталкиваясь со случаем агрессивной патологии, ищет ее причины в прошлой жизни больного, так же и человек, желающий понять причины общественного недуга, вглядывается в десятилетия, предшествующие катастрофе.
О расцвете России в последние предреволюционные десятилетия сказано очень много. Но если расцвет — откуда тогда черная дыра 1917 года, в которую так безоглядно рухнула великая Империя и населявший ее “народ-богоносец”? В начале ХХ столетия Россия бесспорно переживала экономический подъем. Оправившись после поражения в войне с Японией, Империя смогла восстановить свое положение в “концерте держав”. С 1906 года в России работали парламентские учреждения, осуществлялись основные гражданские права. Если бы не война… Но как раз тяготы войны и показали, что во внешне расцветающем обществе таится роковая червоточина, не позволяющая плоду созреть.
Когда мы ныне полагаем, что экономические и политические успехи России сами по себе явятся залогом ее стабильного развития, мы опять совершаем ту же ошибку. “Под громким вращением общественных колес таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все”6. Эти слова Ивана Киреевского объясняют причины и великой русской смуты 1917 —1922 годов, и нынешние наши постоянные неудачи. Русская “нравственная пружина” вся изоржавела к началу ХХ века, и потому так легко надломилась она в годы испытаний.
Честные и трезво мыслящие люди видели это вполне явственно: “Влияние Церкви на народные массы все слабело и слабело, авторитет духовенства падал… Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва — холодным обрядом по привычке. Огня не было в нас и в окружающих. Пример о. Иоанна Кронштадтского был исключением… как-то все у нас „опреснилось”, или, по выражению Спасителя, соль в нас потеряла свою силу, мы перестали быть „солью земли и светом мира”. Нисколько не удивляло меня ни тогда, ни теперь, что мы никого не увлекали за собою: как мы могли зажигать души, когда не горели сами?.. И приходится еще дивиться, как верующие держались в храмах и с нами... хотя вокруг все уже стыло, деревенело”7. Этой оценке митрополита Вениамина, в недалеком будущем главы военного духовенства армии генерала Врангеля, можно найти бесконечное число параллелей среди высказываний современников, как духовенства, так и мирян.
И это “одеревенение” Церкви проявилось немедленно в обществе после обрушения царской власти, поддерживавшей официоз православия.
“Мне невольно приходит на память один эпизод, весьма характерный для тогдашнего настроения военной среды, — писал в „Очерках русской смуты” генерал А. И. Деникин. — Один из полков 4-ой стрелковой дивизии искусно, любовно, с большим старанием построил возле позиций походную церковь. Первые недели революции... Демагог поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм — это предрассудок. Поставил самовольно в нем роту, а в алтаре вырыл ровик для... Я не удивляюсь, что в полку нашелся негодяй офицер, что начальство было терроризовано и молчало. Но почему 2 — 3 тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни? Как бы то ни было, в числе моральных элементов, поддерживающих дух русских войск, вера не стала началом, побуждающим их на подвиг или сдерживающим от развития впоследствии звериных инстинктов”8.
По данным военного духовенства, доля солдат православного вероисповедания, участвовавших в таинствах исповеди и причастия, сократилась после февраля 1917 года примерно в десять раз, а после октября 1917 года — еще в десять раз. То есть активно и сознательно верующим в русском обществе оказался в момент революции приблизительно один человек из ста.
Есть множество свидетельств широкой распространенности в русском обществе эпохи революции не просто равнодушия, а ненависти к вере и церкви. Эта ненависть не насаждалась большевиками — она была разлита в обществе, и большевики победили и вошли в силу потому, что их воззрения, методы и цели были вполне созвучны настроениям большинства русских людей.
До некоторой степени свидетельством этому могут быть результаты выборов во Всероссийское Учредительное собрание в ноябре — декабре 1917 года. За православные партии по всей России было подано, по подсчетам Оливера Радкея, 155 тысяч голосов. Еще 54 тысячи голосов было подано за партии старообрядцев и 18 тысяч — за иные христианские политические движения. То есть в обстоятельствах крайнего не только политического, но и нравственного антагонизма христианские партии привлекли менее полпроцента российского электората9.
Уже в январе 1918 года патриарх Тихон говорит о “жесточайших гонениях, воздвигнутых на Святую Церковь Христову”. “Благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных, или ограблению и кощунственному осквернению, чтимые верующим народом обители святые захватываются безбожными властителями тьмы века сего...”10 Ясно, что без поддержки народа только что захватившие власть в России большевики не могли бы чинить по всей стране подобные насилия над верой и Церковью, насилия, вскоре достигшие масштабов поистине апокалиптических.
Не большевики отвратили от Бога русский народ, но сами русские люди, отвергнув веру и Церковь, породили из себя большевизм или, если угодно, призвали большевиков, как когда-то наши предки призвали на княжение варягов. По духу призывающего избирается и призываемый.
Не могу согласиться с мыслью Святейшего Патриарха Тихона, обвинившего в своем знаменитом “Послании Совету Народных Комиссаров” во всех бедах, постигших Россию, большевиков: “Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния — убийство, насилия, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении грехами и преступлениями”11.
Почему после тысячелетия христианской проповеди на Руси, после веков существования православного царства остался наш народ “темным и невежественным”? Не есть ли эта его темнота и невежество страшное обвинение тем, кому Самим Создателем было сказано: “...идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам” (Мф. 28: 19 — 20)? Да и для тех, кто согласился быть и именоваться законом “верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры (православной. — А. З.)”, “блюстителем правоверия и всякого в Церкви святого благочиния” (Основные Государственные Законы, ст. 64), не является ли для них, Самодержцев Всероссийских, эта темнота и невежество народные в вопросах веры и нравственности тяжким обвинительным приговором? Не клялись ли они в Великой Успенской церкви Москвы во время священного обряда коронования, что будут править “к пользе врученных им людей и к славе Божией, яко да и в день суда Его непостыдно воздать Ему слово”?
Не падают ли убийства, насилия и грабежи, совершенные в годы революции “темным и невежественным” русским народом, на головы тех, кто, высоко поставленный Промыслом и освобожденный от гнета повседневных бытовых тягот, ленился класть душу свою за овец? Кто много раньше большевиков так часто давал народу камень вместо хлеба и змею вместо рыбы или не давал вовсе ничего, ни хорошего, ни дурного, всецело поглощенный своими заботами. Не с головы ли гниет рыба и не таков ли приход, каков поп? “Бездарное, последнее дворянство” — жестокий, но точный приговор Арсения Несмелова.
Боюсь, что неисчислимые страдания, лишения и ужасные смерти множества представителей высших сословий в годы революционного лихолетья — расплата за века их нерадения о долге правителей и пастырей. Большевики не в большей степени виновны в ужасном пароксизме народного организма, чем гной из застарелой, запущенной раны виновен в смерти больного от общего сепсиса. Не большевики за считанные дни своей власти развратили народ, но те, кто так правили им тысячелетие.
“Русь сорвалась, вскипела, „взвихрилась”. В ее злой беде много и нашей вины перед ней. Кто это совестью понял, тому уже не найти больше в прошлом ничем не омраченных воспоминаний... Скажем потому просто и твердо: хорошо мы жили в старой России, но и грешно”, — писал, подводя в германской эмиграции итог жизни, выходец из того самого “высшего класса” России Федор Степун12.
Да и сам народ — он отнюдь не только жертва дурного правления. В старой России, как и в любом сообществе, можно было найти и дурные и добрые примеры, и нравственное и безнравственное. До революции можно было “бывать в Оптиной”, и немало иных светильников добра были разбросаны по Руси, и немало людей ходило в их свете. Наконец, закон совести написан на “плотяных скрижалях сердца”. Сколь бы темен и невежественен ни был человек, он знает в совести своей, что хулить святыню, грабить, убивать, насильничать — это зло. И когда человек встает на путь грабежа, хулы, насилия, убийства, он с необходимостью выжигает в себе совесть, убивает Слово Божие, от рождения в нем пребывающее. Да и не самые дикие, не самые темные и невежественные составили страшный кулак большевистской революции и красного террора. А “дикие” вели себя подчас и иначе.
Основываясь на личных впечатлениях и на материалах “Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков”, И. А. Бунин писал в 1920 году: “Когда пришла наша „великая и бескровная революция” и вся Россия потонула в повальном грабеже, одни только калмыки остались совершенно непричастны ему. Являются к ним агитаторы с самым настойчивым призывом „грабить награбленное” — калмыки только головами трясут: „Бог этого не велит!” Их объявляют контрреволюционерами, хватают, заточают — они не сдаются. Публикуются свирепейшие декреты — „за распространение среди калмыцкого народа лозунгов, противодействующих проведению в жизнь революционной борьбы, семьи виновных будут истребляться поголовно начиная с семилетнего возраста!”— калмыки не сдаются и тут... Говорят, их погибло только на черноморских берегах не менее 50 тысяч! А ведь надо помнить, что их и всего-то было тысяч 250. Тысячами, целыми вагонами доставляли нам в Ростов и богов их — оскверненных, часто на куски разбитых, в похабных надписях Будд”13.
Отказывались брать земли баев и земледельцы Средней Азии. Понадобилась под страхом смерти вытребованная большевиками у верховного кази Бухары Шариджона Махдума Садризийо специальная фетва, именем Бога дозволявшая насильственный передел имуществ, чтобы аграрная революция началась в 1930 — 1931 годах в Маверенахре.
В России все было иначе. Народ не стал умирать за букву нравственного закона, как буддисты-калмыки, и не соблазнился по простоте лживыми объяснениями религиозного авторитета, как мусульмане Бухары. Нет, русский народ отбросил нравственный авторитет и заглушил в себе голос совести ради стяжания чужих имуществ. Напрасно епископ Уфимский Андрей Шаховской в 1918 году объявил об отлучении от причастия всех “грабителей чужих имений”. Имения продолжали грабить, легко отказавшись от Тела и Крови Христовых, а анафематствовавшего грабителей архиепископа Пермского и Соликамского Андроника Никольского зверски убили в июне 1918 года. Большевики ничего бы не добились, если бы русский народ ответил на их посулы так, как ответили калмыки или бухарцы. Но мы ответили иначе.
За радикальные революционные партии социал-революционеров и социал-демократов (большевиков) вместе с их этническими “филиалами” на выборах в Учредительное собрание было подано более тридцати миллионов голосов (то есть три четверти), в том числе за большевиков — почти 10 миллионов14. А ведь в программы именно этих партий входил важнейшей частью пункт о насильственной конфискации имений. “Русская деревня, — делает на основании электоральной статистики вывод американский ученый, — была охвачена страстным желанием завладеть господской землей, ничего не платя за нее. И сколь бы ни был юридически и нравственно справедлив принцип конституционных демократов, требовавший за отчужденные земли компенсаций для бывших владельцев, этот принцип имел следствием только возникновение непреодолимой преграды для работы этой партии в деревне”15.
И не следует думать, что от безысходного голода и нищеты решилась на грабеж русская деревня. Не безлошадная голь, но деревенские богатеи, “справные” мужики, кулаки и середняки, страстно жаждали помещичьей землицы даром. “Заводчиками всей смуты и крови всегда были сытые — крепкие мужики, одолеваемые ненасытной жадностью на землю и деньги... — писал очевидец революции в русской деревне И. Д. Соколов-Микитов. — В первые дни своеволия первый топор, звякнувший о помещичью дверь, был топор богача”16. Пройдет полтора десятка лет, и русский мужик во время раскулачивания и коллективизации поймет на своей шкуре верность старинной итальянской поговорки: “La farina del diavolo se ne va in crusca”. (Помол дьявола весь уходит в отруби). Тогда же, в 1917-м, о неизбежности наказания за преступление не помышляли.
Но преступление редко приходит одно. Подобно евангельским виноградарям, мы сказали: “Убьем наследника, и наследство будет наше”, и не только отбирали бесчисленные имения — земли, дома, заводы, деньги, имущества, вплоть до мебели, белья, книг, но нередко с надругательствами убивали и их владельцев. В какой-то одержимости безумной жестокостью для жертв изобретались фантастические казни, невероятно мучительные и унизительные. Не щадились даже могилы и склепы давно похороненных людей. Кости извлекали из гробниц, над набальзамированными телами глумились самым отвратительным образом. Примеров — бесчисленное множество. Достаточно прочесть книгу С. П. Мельгунова “Красный террор в России”, “Материалы комиссии” Деникина. Все преступления Богдана Хмельницкого на Украине или царя Давида в Равве Аммонитской затмеваются подвалами Чрезвычаек и преступлениями, совершенными “освобожденным народом” по всем городам и весям России.
Вот наугад фрагмент описания комиссии Рерберга, которая производила свои расследования немедленно после занятия Киева Добровольческой армией в августе 1919 года: “Весь цементный пол большого гаража (речь идет о “бойне” губернской киевской ЧК. — А. З.) был залит уже не бежавшей вследствие жары, а стоявшей на несколько дюймов кровью, смешанной в ужасающую массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос и другими человеческими остатками. Все стены были забрызганы кровью, на них рядом с тысячами дыр от пуль налипли частицы мозга и куски головной кожи. Из середины гаража в соседнее помещение, где был подземный сток, вел желоб в четверть метра ширины и глубины и приблизительно в десять метров длины. Этот желоб был на всем протяжении доверху наполнен кровью... В саду того же дома лежали наспех поверхностно зарытые 127 трупов последней бойни... Тут нам особенно бросилось в глаза, что у всех трупов размозжены черепа, у многих даже совсем расплющены головы... Некоторые были совсем без головы, но головы не отрубались, а... отрывались... Около упомянутой могилы мы натолкнулись в углу сада на другую, более старую, могилу, в которой было приблизительно 80 трупов. Здесь мы обнаружили на телах разнообразнейшие повреждения и изуродования... Тут лежали трупы с распоротыми животами, у других не было членов, некоторые были вообще совершенно изрублены. У некоторых были выколоты глаза, и в то же время их головы, лица, шеи и туловища были покрыты колотыми ранами. Мы нашли труп с вбитым в грудь клином. У нескольких не было языков. В одном углу могилы мы нашли некоторое количество только рук и ног. В стороне от могилы у забора сада мы нашли несколько трупов, на которых не было следов насильственной смерти. Когда через несколько дней их вскрыли врачи, то оказалось, что их рты, дыхательные и глотательные пути были заполнены землей. Следовательно, несчастные были погребены заживо и, стараясь дышать, глотали землю. В этой могиле лежали люди разных возрастов и полов. Тут были старики, мужчины, женщины и дети. Одна женщина была связана веревкой со своей дочкой, девочкой лет восьми...”17
“Бывало, раньше совесть во мне заговорит, да теперь прошло — научил товарищ стакан крови человеческой выпить: выпил — сердце каменным стало”, — делился опытом палач харьковской Чрезвычайки Иванович18.
Стоит ли после этого удивляться, что когда, например, части Кавказской Добровольческой армии генерала Врангеля в июне 1919 года вошли в Царицын, командующий столкнулся с огромными трудностями в организации гражданского управления освобожденным краем, так как “за продолжительное владычество красных была уничтожена подавляющая часть местных интеллигентных сил... все мало-мальски состоятельное или интеллигентное население было истреблено”19.
Сейчас выходят новые книги, описывающие злодеяния в тех губерниях, куда не дошли во время Гражданской войны белые войска. И все те же моря крови, жестокости невероятные, надругательства над честью и совестью20.
“Мы не ведем войны против отдельных лиц, — писал, объясняя своим содельникам принципы чекистской „работы”, Лацис. — Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора”21.
А в довершение к красному был еще и белый террор. И если командующие освободительными армиями старались действовать в рамках российского законодательства, то многие из союзных белых атаманов и на Северо-Западе, и на Юге, и особенно в Сибири и на Дальнем Востоке вели себя немногим лучше красных, разве что не с таким размахом и планомерностью и без крайних жестокостей к своим жертвам. Увы, грабежами и мародерством отличались не только казаки, но и некоторые белые генералы. Печальную славу приобрел, например, генерал Май-Маевский, отдавший освобожденный им Харьков “на поток и разграбление”.
“Каждый день — картины хищений, грабежей, насилий по всей территории вооруженных сил, — пишет 29 апреля 1919 года генерал Деникин жене. — Русский народ снизу доверху пал так низко, что не знаю, когда ему удастся подняться из грязи. Помощи в этом деле ниоткуда не вижу. В бессильной злобе обещал каторгу и повешенье. Но не могу же я сам, один ловить и вешать мародеров фронта и тыла”22. Полковой священник, бегущий с увещеваниями за обезумевшим солдатом-грабителем, — частый образ воспоминаний участников Белого движения.
А бывало и пострашнее: “На следующий день после занятия города (Ставрополя, освобожденного добровольцами 2 ноября 1918 года. — А. З.) имел место возмутительный случай, — вспоминает генерал барон Врангель. — В один из лазаретов, где лежало несколько сот раненых и больных красноармейцев, ворвались несколько черкесов и, несмотря на протесты и мольбу врачей и сестер, вырезали до 70 человек прежде, нежели, предупрежденный об этом, я выслал своего ординарца с конвойными казаками для задержания негодяев. В числе последних... находился один офицер...”23
К тому же Великая русская смута дала немало и просто вольных разбойников как идейных, вроде Нестора Махно, так и вовсе безыдейных. И всюду братская кровушка лилась рекой и головы падали несчитанно.
А за Гражданской войной начался “великий террор” молодого советского государства против крестьян и рабочих, против религиозных сообществ и беспартийных специалистов. Немного позже коса террора пошла по самим террористам, недавним идеологам и исполнителям массовых зверств. Ужасы ГУЛАГа и “больших домов” НКВД теперь известны каждому. Свершителями этих ужасов и зверств, как и бесчисленных преступлений Гражданской войны, были далеко не одни Ленины, Сталины, Дзержинские, Берии, коммунисты, или евреи, или латыши — большинство убийц и насильников, следователей и ВОХРа, палачей-садистов, стукачей и доносчиков были простыми русскими людьми. Да и те же Ленины и Сталины, коммунисты, латыши и евреи — разве не часть они нашего российского народа, разве не одна у нас судьба, не один путь? И если Исаак Левитан — великий русский художник, а Борис Пастернак — бесподобный русский поэт, то неужели отсечем мы от себя богоборца Емельяна Ярославского (Минея Губельмана), цареубийцу Якова Юровского или того же Лациса? И слава и позор у нас навек общие.
Но и к иным нациям относились мы так же свирепо и бесчеловечно, как к своей, российской. Когда в 1944 — 1945 годах русские войска вошли в Германию, Венгрию, Польшу, мы вели себя не как освободители от нацизма плененных им народов, а как дикая орда грабителей и насильников. Трудно говорить это, больно безмерно. Но это надо сказать. Вот несколько фрагментов из воспоминаний участника боев за Берлин, тогда молодого гвардии лейтенанта, а ныне одного из замечательных русских мыслителей Григория Померанца:
“Мы въезжаем в город Форст. Я иду выбирать квартиру. Захожу — старушка лежит в постели. „Вы больны?” — „Да, — говорит, — ваши солдаты, семь человек, изнасиловали меня и потом засунули бутылку донышком вверх, теперь мне больно ходить”... Ей было лет 60”. Другая остановка на ночлег, теперь в предместье Берлина Лихтенраде на вилле Рут. “Хозяйка Рут Богерц, вдова коммерсанта, была мрачной и подавленной; ее прекрасные темные глаза метали молнии. Прошлую ночь ей пришлось провести с комендантом штаба дивизии, представившим в качестве ордера пистолет. Я говорю по-немецки, и мне досталось выслушать все, что она о нас думает: „В Берлине остались те, кто не верил гитлеровской пропаганде, — и вот что они получили!” На первом этаже виллы стояли двухметровые напольные часы. Других в доме не осталось. „Мы издадим закон, чтобы меньших часов не производили, — говорила фрау Рут, — потому что все остальные ваши разграбили”... Обычно пистолет действовал, как в Москве ордер на арест. Женщины испуганно покорялись. А потом одна из них повесилась. Наверное, не одна, но я знаю об одной. В это время победитель, получив свое, играл во дворе с ее мальчиком. Он просто не понимал, что это для нее значило... Сталин направил тогда нечто вроде личного письма в два адреса: всем офицерам и всем коммунистам. Наше жестокое обращение, писал он, толкает немцев продолжать борьбу. Обращаться с побежденными следует гуманно и насилия прекратить. К моему глубочайшему удивлению, на письмо — самого Сталина! — все начхали. И офицеры, и коммунисты. Идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Это Маркс совершенно правильно сказал. В конце войны массами овладела идея, что немки от 15 до 60 лет — законная добыча победителя. И никакой Сталин не мог остановить армию. Если бы русский народ так захотел гражданских прав!”24
Молодая русская аристократка, княжна Мария Васильчикова, жившая в эмиграции в Германии и участвовавшая в антигитлеровском заговоре 1944 года, писала 31 марта 1945 года в своем дневнике, что волосы встают дыбом от рассказов о том, как советские поступают с женщинами в Силезии (массовое изнасилование, множество бессмысленных убийств и т. п.)25.
Никогда ранее, ни в 1814 году во Франции, ни в 1914 году в Восточной Пруссии, русский солдат не пятнал себя так тяжко, как в 1945-м. Уроки “гражданки”, опыт безбожия превратили благородного русского воина в свирепое, алчное и похотливое чудовище, потерявшее не только божеский, но и человеческий облик. Чего стоят одни массовые групповые изнасилования, начавшиеся во время штурма Зимнего в 1917 году26 и откликнувшиеся в покоренной Германии в 1945-м. Собакам, верно, тошно было бы смотреть на такое, а наши — и глядели, и делали.
Ни союзники на Западе, ни даже немцы в оккупированной Европе не действовали так отвратительно, как мы в Германии, а ведь мы пятьдесят лет называли себя освободителями Европы, забывая, что за это освобождение мы взяли неслыханную цену: от грабежей и насилий 1945 года до отторжения многих областей Польши, Германии, Чехословакии, Румынии, Финляндии и навязывания самим восточноевропейским народам на долгие десятилетия тоталитарного оккупационного режима, безбожия и классовой ненависти. Своим отношением к поверженному врагу мы опозорили нашу великую победу и еще более отягчили совесть народа.
* * *
А теперь подведем итог. В уходящем столетии мы как народ, российский народ, совершили тягчайшие преступления. Впервые в истории человечества осмелились мы восстать на Бога и семь десятилетий вести войну против Святыни — не против Церкви, не против какой-либо религии, а именно против Самого Творца мирозданья, против самой идеи божественного. Ни один народ, ни одна страна никогда не решались до нас на такое.
Лишь французы во время их Великой революции попытались было отвергнуть Бога — но, ужаснувшись, сам Робеспьер провозгласил в Конвенте 20 прериаля II года, или по-старому 8 июня 1794 года, культ Высшего Существа — l’Кtre Suprкme, подтвердил веру в бессмертие души и сжег картонную статую атеизма в Тюильрийском саду27. Прошло еще шесть лет, и 5 июня 1800 года консул Бонапарт обратился к миланскому духовенству со словами: “Никакое общество не может существовать без морали, а настоящая мораль немыслима вне религии. Следовательно, прочную и постоянную опору государству дает только религия. Общество, лишенное веры, похоже на корабль, лишенный компаса... Наученная своими несчастиями, Франция наконец прозрела; она осознала, что католическая религия подобна якорю, который один только может дать ей устойчивость среди обуревающих ее волнений”28.
Нам Бог, религия, нравственность не нужны были семьдесят лет, с 1917 по 1988 год. Мы боролись против Бога с неистовством необычайным, превозносясь выше всего, именуемого Богом или святынею. Но как раз к таким, как мы, обращены евангельские слова: если же кто скажет хулу на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем, но подлежит он вечному осуждению (Мф. 12: 32; Мк. 3: 29). И страшное осуждение это пало на наши головы.
Мы залили землю нашу братской кровью и осквернили ее на много поколений вперед. Страдания жертв, слезы вдов и сирот, последние стоны истаивающих от голода — они на нас. В России свершились небывалые мерзости и жестокости. А когда у нас достало сил и обстановка была подходящей, мы вынесли нашу злобу и бесчеловечную жестокость за границы России, излив ее на иные народы. Неужели все это возможно забыть? Как гулящей жене из притчи, “поесть и обтереть рот свой и сказать: „я ничего худого не сделала”” (Прит. 30: 20)? Нет, такого не будет, и надеяться нечего. Дети отвечают за грехи отцов. “Кто родится чистым от нечистого? Ни один” (Иов, 14: 4). Великого и страшного закона этого никто не отменял и не отменит никогда.
Причины наших сегодняшних неудач, причины нашей безмерной слабости, причины некачественности нашей демократии и уродливости нашего капитализма не в ошибках Горбачева, Ельцина или Гайдара, не в том, что демократия и капитализм “неорганичны” для русской души или что мы до них “еще не доросли”, нет. Причины нашей бедственности лежат в тех делах, которые мы и отцы наши сотворили в прошедшие десятилетия. И нет такой политической или экономической модели, которая могла бы сделать нынешнюю Россию процветающей и свободной. Нет и не может быть такого гениального политика, который бы ввел нынешний русский народ на равных в мировое сообщество наций. На челе нашем — каинова печать братоубийства и богоубийства. И путь с этой печатью только один — в геенну огненную. Воистину, “оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его” (Иов, 4: 8).
* * *
И все же, пока жив человек, он не должен отчаиваться. Сколь бы ни были тяжки грехи, сама длящаяся его жизнь есть свидетельство надежды, свидетельство того, что Бог еще видит для грешника возможность исправления. Прошлую вину всегда можно изгладить, если страстно, в полноте сердца пожелать этого. Но для такого изглаживания прошлого обязательно, во-первых, осознание прошлых преступлений именно как преступлений, а во-вторых, ненависть к этим преступлениям, к себе самому как к их свершителю и жгучий стыд за содеянное. Именно это состояние наименовали греки metanoia — изменение ума, а наши предки перевели словом покаяние.
Покаяние — это целая наука, и счастлив тот человек, который с детства навык в ней. Он знает, что уничтожиться зло может только искренней и ясной просьбой о прощении. Злодей, дабы перестать быть злодеем, должен при внутреннем желании к исправлению ясно и явно просить о прощении того, кому причинил он зло. Как, казалось бы, просто сказать “прости меня” — и как невероятно трудно искренно это сделать. Легче камни ворочать. Зло защищает себя, и кающемуся всегда надо немалым волевым усилием разрушать эти линии обороны, воздвигнутые из тщеславия, самолюбия, гордости, боязни “потерять лицо”, “осквернить память прошлого”. Но зато какая радость и легкость наполняют сердце, когда “волшебные слова” сказаны с последней прямотой и прощение получено. Силы вливаются в раскаявшегося, в нем рождается явственное чувство свободы, подобное чувству полета во сне. Только плоды раскаяния — не сон, а явь. Покаяние — царский путь победы над всяческим злом и неправдой.
Но часто люди годами не могут решиться встать на этот путь и остаются в жестоком разладе с собой и с самыми близкими. Зло знает множество хитроумных способов, не допускающих рождения покаяния в человеке, и суммарно они могут быть сведены к двум приемам — попытке забвения злодейства или оправдания его. Пытаться забыть зло, надеяться, что его забудет пострадавший, — наивная, хотя и распространенная практика жизни. В действительности зло никогда не забывается до конца, если оно не раскаяно. Мелкие злодеяния, постепенно накапливаясь смертоносной радиацией в душах и объекта, и субъекта злодейства, вызывают в конце концов смерть любви, дружбы, доверия. Злодеяния крупные, возвращаясь то сном, то кошмарным бредом, полностью выжигают душу. И тогда человек начинает убеждать себя, что зло, которое сотворил он, есть вовсе не зло, а добро или хоть и зло, но обыкновенное, какое все совершают. Один из приемов безответственных психотерапевтов при снятии стресса — показать пациенту, что его желания или действия суть не патология, а норма: “все такие же”. И собственная совесть часто становится таким психотерапевтом. Но оттого, что зло назвать добром, добрее оно не станет, да и распространение своего зла на всех сути зла нисколько не меняет. Такие психотерапевтические методы — наркоз, анальгин, но отнюдь не лечение болезни. Зло лечится только покаянием в нем, так же, как больной зуб — визитом к стоматологу, а не жеванием обезболивающих таблеток.
Мы совершили в недалеком прошлом невероятные злодеяния и преступление всех возможных человеческих законов. Возьмем десять заповедей Моисеевых, какая из них не нарушена бесчисленное число раз не отдельными ворами и татями, не горсткой безумцев богохульников — такие действительно встречались во все века, — но всем государством нашим, всем почти нашим обществом, оправдывавшим, поддерживавшим и использовавшим злодеяния власти в своих личных интересах? И по закону человеческому, и по Божескому за соделанные нами и отцами нашими преступления мы тысячекратно повинны смерти. Но Россия еще жива, и более того, не нашим усилием, но вполне чудесно освобождена от семидесятилетней безбожной и человеконенавистнической коммунистической тирании. Означает ли это освобождение прощение? Нет. Нельзя простить того, кто о прощении и не думал просить. Данный нам дар — это не дар прощения, но дар возможности осознать свои грехи и раскаяться в них. Совсем не случайно Перестройка началась с фильма Тенгиза Абуладзе и с “Архипелага” Александра Солженицына — рассказ об ужасах советских застенков был исполнением обета, данного Богу в “раковом корпусе”, а ключевыми в “Покаянии” стали слова старухи о возвратной “дороге к храму”. Ведь покаяние — это не только средство прощения греха, но и единственный путь возвращения человека к поруганному им Творцу его.
И точно, в 80-е годы мы проиграли войну не мировому сионизму, не капитализму, не Соединенным Штатам, не НАТО. Мы проиграли войну Богу, мы капитулировали перед Ним. И возникший из небытия, опять же в чудесно малые сроки, некогда с великими хулениями взорванный храм Христа Спасителя есть зримый символ Его победы и полного поражения апокалиптического красного зверя с именами богохульными, который есть мы.
Ныне три пятых граждан России считают себя верующими, каждый второй объявляет себя православным христианином, каждый восьмой раз в месяц или чаще приходит в молитвенное собрание единоверцев — в церковь, мечеть, синагогу. Для этой части нашего общества слова о покаянии понятны и конкретны, когда речь идет о них самих. Да и многие из еще не нашедших своего “пути к храму” знают на опыте, сколь чудесно меняет жизнь глубокое и искреннее раскаяние.
Но войну Богу и правде Его проиграл не каждый из нас по отдельности, но все мы вместе. Эту войну проиграл весь народ русский, в 1917 году восставший не столько против царя, помещиков и капиталистов, сколько против Бога и Его абсолютных законов. Расправа со старой властью, с высшими сословиями, уничтожение всех личных и имущественных прав были частными проявлениями богоборчества. “Если Бога нет, то все дозволено”, — сказанные героем Достоевского слова эти стали, по сути, главным лозунгом революции.
Конечно, не все, далеко не все русские люди сделались богоборцами и законопреступниками. Но значительная часть — стала, а еще большая, проявив преступную теплохладность и трусость, пыталась занять нейтральную позицию или “встать над схваткой”. “Разве мы в те самые дни (лета 1918 года. — А. З.) много думали... о междоусобной братской борьбе? Где-то там кто-то дерется, далеко, нас это не задевает, ну и ладно... и по человеческой немощи я, как и очень многие военные, интеллигенты, духовные, укрывался за словом нейтралитет”, — искренно каялся через много десятилетий митрополит Вениамин29. “В Ростове и Новочеркасске было еще много немобилизовавшихся (в Белую армию. — А. З.) офицеров, гулявших по улицам и кутивших по ресторанам... — вспоминал депутат IV Государственной Думы и начальник хозяйственной части Добровольческой армии Л. В. Половцов. — В армию пошли случайно попавшие на Юг сербские офицеры, пленные чехи и беззаветно отдавали свою жизнь во имя общеславянских идеалов; а эти местные офицеры объявили себя нейтральными... Их трусость была жестоко наказана. Все, кто не умел хорошо укрыться, после отхода армии из Ростова были с величайшими издевательствами убиты. Таких оказалось, по счету большевиков, около трех тысяч”30.
Лишь горстка граждан стасемидесятимиллионной страны волей души, силой слова и острием штыка восстали против всеобщего безумия, богоборчества, беззакония. Маленькими группками, а то и поодиночке со всей Руси пробирались они на Дон к Каледину с одной мыслью — отдать жизнь за Россию. “Если нужно, — ответил на вопрос о вероятной неудаче Белого движения генерал Лавр Корнилов, — мы покажем, как должна умереть Русская Армия”. И — показали.
Почти всегда сдержанный, отстраненно-холодный, “с руками, заложенными за спину”, Иван Бунин обрел совсем иной, не свойственный ему тон, вспоминая солдат “Белого дела”:
“Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника, — да святится вовеки его память! Под триумфальными вратами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит. Где те врата, где то пламя, что были бы достойны этой могилы? Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее”31.
Старец митрополит Вениамин, вернувшись в 1947 году из эмиграции и доживая последние годы на покое в Псково-Печерском монастыре, отбросив обычную для него осторожность, так оценил, обращаясь к “красному читателю”, “Белое дело”, которое знал далеко не понаслышке: “Пусть белые даже не правы исторически, политически, социально. Но я почти не знаю таких белых, которые осуждали бы себя за участие в этом движении. Наоборот, они всегда считали, что так нужно было, что этого требовал долг перед Родиной, что сюда звало русское сердце, что это было геройским подвигом, о котором отрадно вспомнить. Нашлись же люди, которые и жизнь отдали за „единую, великую, неделимую”... не раскаивался и я... Много было недостатков и даже пороков у нас, но все же движение было патриотическим и геройским. Не случайно оно получило имя „белое”. Пусть мы были и сероваты, и нечисты, но идея движения, особенно в начале, была бела. Христиане мы плохие, христианство — прекрасно”32.
“Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди Русского народа людей, готовых восстать против безумия и преступлений советской власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую Родину — это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей Старого Континента, обреченный на колонизацию пришельцев с Запада и Востока. К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому Русскому народу”, — писал в Париже генерал Антон Деникин33. Они, те, кто остались лежать непогребенными в бескрайних южнорусских степях, те, кто были зверски казнены в Крыму в 1920 году, те, кто унесли горсти родной земли на чужбину в изгнание, — они принадлежат “к замученному, но великому Русскому народу”. Они принадлежат — а мы?
В схватке, сжигавшей Россию в 1917 — 1922 годах, не могло быть нейтральных. Все акценты, все цели были тогда сформулированы предельно ясно. На одном — безумие богоборчества, “пожар до небес”, позор Брестского мира, стакан человеческой крови и глумление над всеми вековыми установлениями человечества: “Иисуса на крест, а Варавву — под руки и по Тверскому... Богу выщиплю бороду, молюсь ему матерщиной...”34 На другом — вера или хотя бы почтение к вере и закону отцов; любовь к Отечеству; самопожертвование; пусть и искаженное трагизмом времени и извечным несовершенством падшей человеческой природы благородство мыслей и чувств.
Да, были революционеры-идеалисты вроде Кропоткина и Плеханова, но “под серпом и молотом” жить они не смогли. Да, были воры, бандиты и погромщики среди белых, но их, как правило, не прощали. Деникин прогнал из армии генерала Май-Маевского за допущение грабежей в Харькове, Шкуро вешал зачинщиков еврейского погрома в Воронеже; барон Врангель — “экспроприаторов” из Горской дивизии в Великокняжеской35.
Нравственное основание обнажилось в те годы с предельной для нашего несовершенного мира ясностью. И выбор был сделан каждым, свободный выбор. И большинство не пошло по пути Правды, Истины и Жизни, предпочитая или откровенное зло и беззаконие, или “нейтралитет”, как будто между законом и его попранием может быть нейтральная позиция.
Мы ныне стоим в конце того неправедного пути, который избрали деды наши восемь десятилетий назад. И мы будем содельниками их до тех пор, пока не изменим ум, пока не возненавидим “черное дело”, сотворенное отцами. Удивляться нашим постоянным послеперестроечным неудачам нет причины. Они в буквальном смысле слова закономерны. И Абсолютный нравственный закон будет бить нас вновь и вновь за дела отцов, пока мы не скажем Богу и тем, кто отдавали жизнь за его Правду: простите нас.
Прошлое нельзя забыть и невозможно оправдать, его можно только принять и, приняв, вновь, на этот раз верно, сделать выбор, столь неправильно осуществленный нами тогда.
В этом и есть смысл покаяния. Но покаяние народа не во всем подобно покаянию человека. Это не церковное таинство, или, может быть, не только церковное таинство, но и общественно-политический акт. Начавшись в сфере общественного сознания, он должен осуществиться в праве, в образовании, в идеологии, в политике и экономике, иными словами, во всей полноте жизни нашего общественного организма.
Мне уже приходилось писать, что сейчас мы живем в системе советского и постсоветского права, советского и постсоветского образования, советской и постсоветской идеологии, политики и экономики и из этой привычной системы выходить не желаем36.
Право — точный инструмент для ориентации в историческом пространстве — ясно указывает нам, что, поскольку ни один закон, действовавший до 1917 года, у нас не действует, а все советские законы, если они правомерно не отменены, действуют, мы — наследники разрушителей “старого мира”, а не его защитников. Для того чтобы расстаться с этим тлетворным наследством и вступить в права владения другим, историческим, необходимо формально-юридическое восстановление правопреемства с той Россией, которую наши деды разрушили “до основания”. Пока этого мы не сделали, мы — дети Ленина, а не Лавра Корнилова и дела Ленина — наши дела. “Дело Ленина в сердце каждом. Верность партии делом докажем”. Помните?
И как истинно хорошие дети, мы храним тело отца, его многочисленные статуи и изображения. Мы бережем его имя и имена его товарищей в названиях городов и областей, улиц и площадей. Где имена Корнилова и Деникина, Столыпина и Витте, полковника Нежинцева и генерала Духонина, Миллера, Кутепова, адмирала Колчака? Где доски и памятники на местах массовых казней, на стенах зданий ЧК и НКВД? Декоммунизация в нашем обществе, чуть начавшись в 1991 — 1994 годах, полностью захлебнулась. Успели кое-что переименовать в Москве и Петербурге, вернуть названия нескольким городам, воздвигнуть крест на Бутовском полигоне — и остановились. Санкт-Петербург у нас нынче окружен Ленинградской областью, Екатеринбург — Свердловской. А Вятке, Симбирску, Екатеринодару, Царицыну, Гжатску вовсе не пожелали вернуть имена.
Более того, президентским указом день 7 ноября объявили праздничным днем “национального примирения”. Это уже просто кощунство над памятью миллионов жертв беззаконного коммунистического режима, над теми героями, которые не пожалели своих жизней в неравном бою, пытаясь спасти честь России. Добро не может примириться со злом, Христос — с Велиаром. Либо белое дело — зло, а красное — добро, либо — наоборот. Нам необходимо определиться, сообразуя свой выбор с нравственным законом, со своей совестью. Иначе день национального примирения станет днем примирения со всем тем, что дал России Октябрьский переворот 1917 года. День 7 ноября мог бы быть днем национальной скорби, днем покаянным, когда бы мы вспоминали ошибки отцов и смиренно умоляли Спасителя о прощении. Примиряться же, как любят говорить сейчас, на нулевом варианте, без покаяния за соделанные беззакония, без горьких слез за моря пролитой нами крови, — тлетворно. Наши дети вырастут абсолютными циниками и вконец погубят и себя и страну, если мы не научим их различать добро и зло в делах человеческих. История должна учить, как-то даже стыдно об этом трюизме напоминать.
А что мы имеем сейчас?
Нравственная история Отечества не написана. Дела предков не выверены по шкале правды. Семьдесят лет мы лгали и учили лжи. И мы так свыклись с ложью, что перестали верить в правду, правда релятивизировалась. Своя правда — у белых, своя — у красных. В чем-то прав Николай II, а в чем-то убивший его Ленин. При таком подходе все хорошие и все плохие. Но как тогда мы сможем оценить настоящее и определить пути в будущее? Если не по компасу правды, то по какому иному прибору мы будем выверять курс корабля? По выгоде, доходу, богатству? Но и они у всех разные. Да и можно ли при такой шкале осуждать нуворишей, вкусно живущих и плюющих при этом и на нищающий народ, и на разваливающуюся страну? Своя рубашка ближе к телу — так, что ли?
Более полутора тысяч лет для европейца образцом нравственного прочтения истории являются исторические книги Библии. Единственный положительный герой в них — Бог. Все люди — несовершенны, грешны. Даже такие благоговейно почитаемые патриархи, как Авраам или Иаков, такие великие вожди и судьи народа, как Моисей и Гедеон, такие славные цари, как Давид и Соломон, — все они оступались, падали, впадали в тяжкие прегрешения. Об этих грехах древний летописец не боится говорить подробно. Он знает: чужие ошибки и их неизбежные последствия вразумляют и наставляют намного лучше, чем бесконечный панегирик. Более того, из этих ошибок выводятся последовавшие затем беды Израиля, а из преодоления ошибок — успехи и победы. Абсолютным же мерилом правды является Сам Законодатель — Творец бытия.
Древний летописец не устает говорить о каждом царе и правителе, стремился ли он, несмотря на все ошибки и заблуждения, к правде Божьей или всецело служил греху. Под каждое деяние, каждое правление подведена нравственная оценка. Не все согласятся со всем набором критериев, используемых летописцем, но метод в целом вряд ли вызовет возражения. Ведь и мы оцениваем свои дела и дела других постоянно.
И вот мы опять в 1917 годе. Хорошо было делать то, что делали революционеры? Хорошо было, например, конфисковывать имущества, проводить полную национализацию частной собственности, банковских вкладов, земли? Если хорошо, то что тогда возразим мы Гайдару, обесценившему практически до нуля вклады в 1992 году, или Чубайсу, приватизировавшему народное хозяйство по своему вкусу? Они вели себя, как достойные наследники экспроприаторов 1918 года. А если плохо делали революционеры, то почему мы должны с ними примиряться, а не осуждать эти дела и не исправлять их? То же можно сказать и о богоборчестве, об уничтожении духовенства и верующих мирян, о надругательствах над святынями всех религий. Если это хорошо, то продолжим в том же духе, а если плохо, то осудим свершителей таковых святотатств, ничего не скрывая и никого не обеляя. А массовые репрессии, террор, расстрел тысяч заложников, лагеря Соловков и Воркуты, Магадана и Норильска, а депортации народов, а надругательства над честью женщин в застенках НКВД, а пытки и избиения на следствии? И наконец, наши злодеяния в Польше и Прибалтике в годы революции и вторичной оккупации, в Германии и Венгрии в конце Великой войны. А Германия 1953-го, Венгрия 1956-го, Чехословакия 1968-го? Да всего не перечесть. Но в истории все это должно быть сказано без утайки, без стыдливой скороговорки, с точными фактами, датами, именами. И всему должна быть дана четкая нравственная оценка.
То же самое следует сделать и с историей дореволюционной. Все безнравственные деяния царей и их фаворитов, все неразумные и жестокие повеления должны быть вскрыты, рассказаны. Мы должны также показать те мотивы, которыми руководствовались и правители старой России, и ее красные властители, принимая свои решения. Из мотивов многое становится еще яснее, чем из свершившихся дел.
Но одновременно с написанием этой нравственной истории Отечества мы обязаны свершить суд над недавним прошлым. Над тем прошлым, которое довлеет нам.
Подобно немцам, осудившим свое нацистское прошлое, мы обязаны судить прошлое коммунистическое. Судить по тем законам, которые силой отвергли в 1917 году, чтобы делать то, что вздумается, — по этим законам должны судиться люди и деяния. Их уже нет в живых, этих великих преступников и злодеев, но приговоры им должны быть вынесены по всей форме. И тогда станет ясно, может ли область называться именем Свердлова, а областной город — именем Кирова, могут ли на главной площади России лежать в стеклянном гробу останки Ленина, а рядом выситься бюсты Сталина и Калинина. Тогда слова о заслугах Ленина или Сталина перед Россией, столь любезные сердцу некоторых политиков, будут восприниматься у нас так же, как в Германии воспринимаются сейчас слова о заслугах Гитлера и Геббельса. И так же, как немецких детей водят на экскурсии в Дахау и Заксенхаузен, показывать постыдные дела дедов, так же и у нас следует показывать Бутовский полигон и внутреннюю тюрьму Лубянки. И так же, как в Германии борцы с нацизмом стали национальными героями, а нацистские вожди — антигероями, так же следует сделать и нам. Граф Клаус Шенк фон Штауффенберг и Адольф Гитлер нравственно окрашены для современного немца во вполне определенные цвета, и их образы вполне соответствуют нравственному принципу совести. Тот немец, который назовет Штауффенберга мерзавцем, а Гитлера истинным вождем отечества, встретит не только всеобщее осуждение, но и предстанет пред уголовным судом.
У нас же авторы школьного учебника “История России. ХХ век” не стесняются поносить армии и политику Деникина и Колчака: “Пьянство, порки, погромы, мародерство стали обычными явлениями в Добровольческой армии. Ненависть к большевикам и всем, кто их поддерживает, заглушала все иные чувства, снимала все моральные запреты... Врываясь на территории „красных” губерний, казачьи части вешали, расстреливали, рубили, насиловали, грабили и пороли местное население. Эти зверства рождали страх и ненависть, желание отомстить, пользуясь теми же методами. Волна злобы и ненависти захлестнула страну”. И ни единого слова о застенках сотен ЧК, о массовых убийствах клириков и мирян, офицеров и купцов, учителей и дворян. То есть, если верить учебнику, в ужасах революции первенство принадлежит белым, красные только отвечали на насилие насилием — фантастическая для историка ложь. Белым вменяется в вину и глупость, что они пытались вернуть земли и имущества бывшим владельцам: “Правительство юга России потребовало предоставить владельцам захваченных земель треть всего урожая. Некоторые представители деникинской администрации пошли еще дальше, начав водворять изгнанных помещиков на старых пепелищах... На контролируемых ими территориях восстанавливались законы Российской империи, собственность возвращалась прежним владельцам” 37. Но как же иначе могли поступать честные люди с бандитски попранными законами и награбленными имуществами? Неужели согласиться на беззаконие, оставить похищенное в руках грабителей? Крестьянство в годы революции не пошло за белыми, забыв непреложность восьмой заповеди Божией “не укради”, и вскоре лишилось и своих, и награбленных имений. Разве белые должны были потакать пагубным страстям народа ради своей узкой выгоды? Неужели на так преподанном примере надеемся мы научить наших детей нравственному отношению к закону и чужому имуществу?
А примеров таких немало. До сего дня в степи, где “без крестов и священников” оставили мы лежать белых ратников, как и тогда, когда в 1924 году Бунин произносил свою знаменитую речь, “тьма и пустота”. Не пылает в их память вечный огонь, не отвален еще камень от гроба России...
* * *
Но крепнет надежда, что вступаем мы все же на путь изменения ума.
Так получилось, что злодеяния революции персонифицировались для русского общества в трагедии последнего нашего царя. Чудесно в конце 70-х годов были обретены останки его, его семьи и погибших с ним верных слуг, чудесно и вдруг возникшее всеобщее внимание к жертвам страшной расправы в подвале Ипатьевского дома. На строгий взгляд историка, Государь Николай II правитель далеко не безупречный: и его правление, и само его отречение много послужили гибели старой России. Но в трагедии смертного пути царской семьи отразились миллионы подобных трагедий бывших его подданных. В его слабостях — их слабости, в его вере — их вера, в его любви к Отечеству — их любовь, в его гибели — их гибель и изгнание, принятые, часто сознательно, за грехи отцов и дедов, того самого “последнего, бесплодного дворянства”. Но смерть и страдания жертв, если и попущены они Богом, отнюдь не смягчают вину их убийц и мучителей.
Пять лет назад Святейший Патриарх Алексий II произнес очень значительные слова: “Грех цареубийства, происшедший при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением и Божеского и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании... Мы призываем к покаянию весь наш народ, всех чад его, независимо от их политических воззрений и взглядов на историю, независимо от этнического происхождения, религиозной принадлежности, от их отношения к идее монархии и к личности последнего Российского Императора. Отрекаясь от грехов прошлого, мы должны понять: благие цели должны достигаться достойными средствами. Созидая и обновляя жизнь народа, нельзя идти по пути беззакония и безнравственности. Совершая любое дело, даже самое доброе и полезное, нельзя приносить в жертву человеческую жизнь и свободу, чье-либо доброе имя, нравственные нормы и нормы закона...”38
Прошло пять лет, и российская власть нашла в себе моральные силы совершить величайший акт покаяния и обращения к еще недавно попиравшейся правде. 17 июля 1998 года останки жертв убийства в Ипатьевском доме были с воинскими почестями преданы христианскому погребению в Петропавловском соборе. Во время похорон Президент России, в прошлом сам секретарь обкома и разрушитель Ипатьевского особняка, исповедал над гробами страдальцев и свою личную вину, и вину народа: “Долгие годы мы замалчивали это чудовищное преступление, но надо сказать правду: расправа в Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц нашей истории. Предавая земле останки невинно убиенных, мы хотим искупить грехи своих предков. Виновны те, кто совершил это злодеяние, и те, кто его десятилетиями оправдывал. Виновны все мы”39.
Что можно добавить к этим словам всенародной исповеди, самым, наверное, значительным словам, сказанным Президентом за всю жизнь. “Виновны все мы”. Слово покаяния произнесено. Оно произнесено над покрытым золотым Императорским штандартом гробом последнего русского царя, но сказано конечно же о всех погибших, о всех неправедно убиенных, униженных, разоренных, изгнанных и замученных. Не только в смерти одиннадцати ипатьевских страдальцев, но и во всех смертях и страданиях всей Великой Русской смуты, начавшейся в 1917-м и длящейся, может быть, и поныне, воистину “виновны все мы”. И мы, как всегда, вольны принять или отвергнуть это слово покаяния, насытить его делами или забыть среди сует жизни, счесть словом одного дня или девизом эпохи, устрашиться последствий раскаяния или мужественно предать себя суду Бога и истории.
С кем мы отождествим себя — с теми, кто принес в жертву своей алчности и изуверству “нравственные нормы и нормы закона”, или с теми, кто ценой жизни старался уберечь их, защищая Россию от соловецких отстрелов, от рвов Бутова, от Куропат, от Катыни? 17 июля 1998 года мы вплотную приблизились к тому моменту, когда выбор неизбежен. И с предельной ясностью надо сознавать: будущее России, ее процветание или упадок напрямую зависят от того или иного нашего выбора в этом, казалось бы, теоретическом, отвлеченном вопросе.
Люди не властны над прошлым, но они имеют власть над своим отношением к нему. И это отношение к прошлому определяет их грядущую судьбу. Выйдя из Египта, израильтяне могли со скорбью и отвращением вспоминать эпоху рабства, а могли и вздыхать по ней, скучая по “египетским котлам”. Израильтяне вздыхали и скучали, и путь в сорок дней до Земли Обетованной стал дорогой в сорок лет, пока кости всех, вышедших из Египта, не легли в пустыне.
Мы, оступаясь, падая, с трудом поднимаясь, бредем по пустыне уже восьмой год. Что ожидает нас? Бесконечный безрадостный путь, пока не вымрут все, на ком до третьего и четвертого рода лежит проклятье за дела дедов и отцов, или скорое избавление от уз прошлого, обретенное в покаянии, во всецелом изменении ума?
Последнее решение о грядущей нашей судьбе принимать нам.
Зубов Андрей Борисович родился в 1952 году в Москве. В 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений. С 1973 года работает в Институте востоковедения РАН. Ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук.
1 Солженицын А. Россия в обвале. М., “Русский путь”, 1998.
2 Подробный анализ опроса: Зубов А. Единство и разделения современного русского общества. Вера, экзистенциальные ценности и политические цели. — “Знамя”, 1998, № 11.
3 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М., “Отчий дом”, 1994, стр. 422.
4 Рабби Йосеф Телушкин. Еврейский мир. Иерусалим, “Гешарим” — Москва, “Еврейский университет”, 1992, стр. 167.
5 “Милая, обожаемая моя Анна Васильевна...”. М., “Прогресс”, “Традиция”, “Русский путь”, 1996, стр. 87 — 89. Подробнее об этом см.: Сафонов И. Одя. История одной недолгой судьбы. — “Новый мир”, 1997, № 6; Кублановский Ю. Анна Тимирева и адмирал Колчак. — “Новый мир”, 1997, № 6.
6 Киреевский И. Критика и эстетика. М., “Искусство”, 1979, стр. 157.
7 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох, стр. 122, 135.
8 Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., “Наука”, стр. 79 — 80.
9 См.: Radkey O. H. The Election to the Russian Constitutional Assembly of 1917. Cambridge, 1950, p. 16.
10 “Послания святителя Тихона”. М., “Просветитель”, 1990, стр. 14.
11 “Послания святителя Тихона”, стр. 22.
12 Степун Федор. Бывшее и несбывшееся. М., “Прогресс-Литера”, — СПб., “Алетейя”, 1995, стр. 11.
13 Бунин И. Великий дурман. М., “Совершенно секретно”, 1997, стр. 73 — 74.
14 См.: Radkey O. H. The Election to the Russian Constitutional Assembly of 1917, p. 16.
15 Ibid., p. 59.
16 Соколов-Микитов И. Крепота и тощета. — “Родина”, 1990, № 10.
17 Мельгунов С. Красный террор в России. М., “Постскриптум”, 1990, стр. 127 — 128.
18 Деникин А. Очерки русской смуты. Вооруженные силы Юга России. Берлин, 1926, стр. 129.
19 Врангель П. Н. Записки. Часть 1. — В кн.: “Белое Дело”. Избранные произведения в 16-ти книгах. Кн. IV. Кавказская армия. М., “Голос”, 1995, стр. 211 — 212.
20 См., напр.: Тимкин Ю. Смутное время на Вятке (1917 — 1918 гг.). Вятка, 1998.
21 Мельгунов С. Красный террор, стр. 44.
22 Письмо от 29 апреля 1919 года. Цит. по: “Известия”, 1994, 28 июня.
23 Врангель П. Н. Записки. Часть 1, стр. 115 — 116.
24 Померанц Г. Записки гадкого утенка. М., “Московский рабочий”, 1998, стр. 198 — 202.
25 См.: Васильчикова М. Берлинский дневник 1940 — 1945. М., “Наше наследие”, 1994, стр. 279.
26 Синегуб А. Защита Зимнего дворца. — В кн.: “Архив Русской революции, изданный Г. В. Гессеном”. Т. 4. М., “Терра” — “Политиздат”, 1991, стр. 192—194.
27 Карлейль Т. Французская революция. М., “Мысль”, 1991, стр. 516.
28 “История XIX века”. Под редакцией Э. Лависса и А. Рамбо. Т. 1. М., Соц.-экон. издательство, 1938, стр. 265.
29 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох, стр. 182, 233.
30 Половцов Л. Рыцари тернового венца. Париж, “Лев”, 1980, стр. 41 — 42.
31 Бунин И. Великий дурман. М., 1997, стр. 134.
32 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох, стр. 233.
33 “Белая Россия”. Альбом № 1. Нью-Йорк, 1937, стр. 3.
34 Есенин Сергей. Инония. 1918.
35 Врангель П. Н. Записки. Часть 1, стр. 180.
36 Зубов А. Правовое преемство и правовая идентичность в сегодняшней России. — “НГ-Сценарии”, 1998, № 7, 8 июля; Зубов А. Обращение к русскому национальному правопорядку как нравственная необходимость и политическая цель. М., 1997.
37 Данилов А. и Косулина Л. История России. ХХ век. Учебная книга для 9 класса. М., “Просвещение”, 1995, стр. 110 — 112.
38 Послание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви к 75-летию убиения Императора Николая II и его семьи.
39 Цит. по статье: Бесик П. Россия проводила в последний путь своего императора. — “Независимая газета”, 1998, 18 июля.