5 Идея личности есть, по существу, открытие новейшего времени
– своего рода итог и квинт-эссенция нового гуманистического сознания. Овладевая материальным миром, раскрывая свою творческую мощь художника и ученого, человек одновременно проделал немалый путь в глубину самого себя. Внутренний мир человека оказался не одномерным, но объемным
– углубление шло сразу в нескольких различных направлениях; но нас сейчас интересует в первую очередь углубление метафизическое, духовное, открытие человеком самого себя как личности.
Это открытие оказалось прежде всего очень опасным
– прикосновение к тайне личности иногда придавало первооткрывателям черты почти демонические: таковы Байрон и Лермонтов, среди философов
– Штирнер.
Как мыслитель, Штирнер представляется на голову выше своего окружения; метафизическая глубина, в которую он заглянул, оказалась просто недоступна пониманию его учителей и друзей
– Фейербаха, Бауэра или Маркса.
Что же увидел Штирнер?
Он увидел человеческую ЛИЧНОСТЬ
– и открытие потрясло его. Нет, не «индивидуум» социологии, не «персона» юриспруденции, не «субъект» гносеологии: это было что-то иное, мистическое, бездонно-глубокое, единственно значительное, едиственно реальное в мире.
Я
– который обладаю разумом; Я
– который обладаю нравственностью; Я
– который обладаю религией; Я
– который обладаю всей своей человеческой природой; Я
– который обладаю другими людьми.
Это было поистине великим открытием. Личность была пережита Штирнером как нечто находящееся за пределами всякого проявленного бытия, как нечто трансцендентное всякому проявленному бытию, как своего рода «абсолют». Будучи «собственником» всего, что может быть выраженным, высказанным, созерцаемым, личность есть абсолютная монада, цельная и законченная в себе сущность, невыразимая, несообщимая, непостижимая, существующая лишь в себе и для себя, осознающая себя как единственную в мироздании. Будучи мыслителем последовательным и бесстрашным,
Штирнер понял, что личность, так им переживаемая, хотя и обладает
– стремится обладать
– всем, сама по себе абсолютно бессодержательна, пуста.
«Я построил свое дело на ничто», - заявил он с парадоксальной дерзостью.
Фейербах пытался было написать ответ Штирнеру, начал саркастически: «О, единственный и непостижимый...», но как-то осекся, почуял, видно, свою несоизмеримость с ним, свою несостоятельность перед ним, хватило ума и мужества промолчать.
Из современников только Хомяков почувствовал и выразил всю значимость штирнеровских идей, как абсолютных требований человеческой «духовной свободы».
«...Все будущие попытки, – писал Хомяков
– вроде устаревшего Оуэнизма или нового социализма, будут неудачны и ничтожны по тем же причинам, по которым были неудачны или ничтожны их предшественницы. Приговор над ними совершается современной нам историей; произнесен же он несколько лет назад в книге нелепой по своей форме, отвратительной по своему нравственному характеру, но неумолимо-логичной: в книге Макса Штирнера "Единственный и его собственность". Эта книга, от которой с ужасом отступилась школа, породившая ее, о которой без глубокого негодования не может говорить ни один нравственный немец, имеет значение историческое, незамеченное критикой и, разумеется, еще менее известное самому автору, значение полнейшего и окончательного протеста духовной свободы против всяких уз, произвольных и налагаемых на нее извне. Это голос души, правда безнравственной, но безнравственной потому, что ее лишили всякой нравственной основы... Современная история есть живой комментарий на Штирнера, фактический протест жизненной простоты против книжного умничанья, которое вздумало ее надувать призраками самодельных духовных начал, когда духовные начала, которыми она некогда действительно жила, уже не существуют». Тема личности, как надисторического и надкосмического начала в человеке, с особой силой прозвучала в творчестве Бердяева попытавшегося привить штирнеровскую интуицию к стволу христианской мысли.
«Бесконечный дух человека, – утверждает Бердяев,
– претендует на абсолютный, сверхприродный антропоцентризм, он сознает себя абсолютным центром не данной замкнутой планетной системы, а всего бытия, всех миров...» («Смысл творчества»). Дерзким вызовом, который не может быть обойден, прозвучал протест Бердяева
– во имя личности
– против истории, материи, вообще против всякого объективированного бытия.
«Я принадлежу к тем людям, – говорит он,
–
которые взбунтовались против исторического процесса, потому что он убивает личность, не замечает личности и не для личности проходит. История должна кончиться, потому что в ее пределах неразрешима проблема личности...» («Самопознание»). Идея Штирнера о личности как «собственнике» бытия прилетает у Бердяева более содержательный характер:
«Я переживаю не только трагический конфликт личности и истории, я переживаю также историю как мою личную судьбу. Я беру внутрь себя весь мир, все человечество, всю культуру. Вся мировая история произошла со мной, я микрокосм. Поэтому у меня есть двойное чувство истории, история мне чужда и враждебна, и история есть моя история, история со мной...» (там же). Удалось ли Бердяеву «христианизировать» идею личности?
Мы можем ответить на этот вопрос лишь отрицательно.
Штирнер оказался в нем сильнее Православия
– вера в трансцендентность» личности привела Бердяева к почти манихейской онтологии. «Активное ничто», «унгрунд» оказалось у него самосущей реальностью рядом с Богом; отсюда
– «трагедия в Абсолюте», нерешенность вопроса об окончательной победе добра, «антропологическое откровение» человека Богу и т.д.
(«Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого». 1944). Тем не менее, проповедь Бердяева оставила глубокий след в душах современников: для многих он остается самым ярким представителем христианского персонализма. К сожалению. И ошибки его не менее популярны: сейчас, как и во все времена, человеческий рассудок, оторванный от корней бытия, проявляет неудержимую склонность к объяснению великой тайны творения, личности, свободы, существования зла
– через признание «иного» начала, через онтологию «ничто»...
Подобно В. Лосскому, Бердяев приходит к утверждению абсолютного «апофатизма» личности, к отказу от каких-либо попыток философского постижения личности:
«Тайна личности невыразима... на языке отвлеченной метафизики. О личности не может быть построено никаких метафизических учений». («Философия свободного духа», ч. 1). Характерная картина
– В. Лосский, богослов, который ни на шаг не хотел выйти за рамки святоотеческого богословия, и Бердяев
– свободный мыслитель, исходящий из внутреннего опыта и данных мировой культуры
– оба отказались от попытки выразить переживание личности на языке разума. Может быть, ни в том, ни в другом так и не произошло подлинной встреч знания о Боге и знания о Человеке? И только ли в этом корень неудачи?
Как у Лосского, так и у Бердяева (не говоря уже о Штирнере) личность остается, по существу, одинокой, изолированной
от других личностей.
Лосский, рассматривая «природу» человека как нечто «обладаемое» личностью, усматривает осуществление соборности в своего рода «обобществлении собственности»: в том, что многие личности, отказываясь от индивидуального обладания, начинают совместно «владеть» этой «обобществленной» природой, ставшей, таким образом, для каждой личности ее собственной природой
– и в то же время, природой любой другой личности.
Эта концепция своеобразного «онтологического коммунизма» совершенно неудовлетворительна, т.к. общность «имущества», как и во всяком «коммунизме», не устраняет глубокую внутреннюю изолированность личностей друг от друга.
Отношение обладания может существовать лишь между личностью и некоторой низшей природой, своей же собственной природой или сущностью «обладать» нельзя, ибо личность тождественна своей сущности. «Быть личностью»
– это значит просто «быть»
– на высшем уровне бытия, доступного для творения. Преодоление же изолированности личности на том самом уровне бытия, на котором существуют сами эти личности, представляется Лосскому неким их «взаимопожиранием».
Это говорит о том, что реальный опыт личной любви к Богу или человеку не нашел выражения в антропологии Лосского. Непроизвольно произведенная им метафизическая подмена христианства коммунизмом имеет ту ценность, что вскрывает коренное различие этих религий: именно, если христианство есть религия любви, то коммунизм, напротив, есть «религия нелюбви», религия «обобществленного эгоизма».
Несмотря на глубину подхода к проблеме личности, В. Лосскому не удалось избежать общей неудачи, которая постигла почти всех мыслителей нашего времени, пытавшихся поставить в центр своего мировоззрения идею личности
(Personlichkeit) – «самую глубокую, богатую, всеобъемлющую мысль, на кторую мы способны» (У. Э. Гоккинг, цит. по: А. Хюбшер. «Мыслители нашего времени». М. 1962). Оценивая положение вещей в этой области, В. Зеньковский утверждает:
«Персонализм, надо сказать прямо, до сих пор удавался лишь на почве плюрализма, котором отдельные человеческие личности отделяются одна другой непроходимой метафизической стеной...» («Основы христианской философии», т. 2).
Первичный, фундаментальный опыт любви не нашел выражения также и у Бердяева, который утверждает:
«Окончательное одоление одиночества происходит лишь в мистическом опыте, все во мне и я во всем» («Я и мир объектов») – в своего рода слиянии личностей в единую мировую личность.
Но личность, которая онтологически одна, «одинока», с таким же успехом может мыслиться как начало безличное. Это и происходит в индийском учении об Атмане
– Мировой Душе, которая может мыслиться как начало личное, сверхличное или безличное: само различение этих понятий теряет смысл.
«Мы все начинаем с того, что бываем дуалистами в религии любви, говорит Вивекананда, излагая «Бхакти-Йогу»,
или «Путь Любви». – Бог для нас отдельное существо, и себя мы чувствуем также отдельными существами... Мы начинаем с любви к себе, и ложная претензия нашего маленького «я» делает любовь эгоистичной. Но, наконец, наступает полное озарение светом, при котором это маленькое «я» становится видимым, как одно с Единым Бесконечным. Человек... осуществляет прекрасную и вдохновенную истину, – что любовь, любящий и любимый на самом деле – одно». (Перевод Я. К. Попова). Обещанный «восторг слияния» несколько охлаждается скептическим соображением онтологического характера: «Единый Бесконечный», не имея никого равного себе, не может и любить всем своим существом, но наша душа предчувствует, что существование без любви, каким бы оно ни было универсальным
– есть существование иллюзорное, призрачное. Томясь от такого призрачного бытия и не имея возможности достичь бытия подлинного
– ибо он один и любить некого
– такой «Единый Бесконечный» должен был бы иметь лишь одно определенное желание
– сменить муку «полубытия» на покой полного уничтожения, если только оно возможно (идеи подобного рода действительно высказываются в «Упанишадах»).
К такому «онтологическому мареву» приводит представление о «слиянии» личностей в единое целое...
6 Очевидно, что личность может осуществить себя, сделать реальным свое бытие, преодолеть свою самозамкнутость, лишь опираясь на то, что находится на одном уровне с ней
– т. е. в отношении к другой личности. Но если личность «условно-трансцендентна» всему безличному, то каким-то иным образом, но более безусловно
–– она также «трансцендентна» другой личности. Вхождение в онтологическое отношение с другой личностью есть предельный акт тварного бытия.
Христос в Евангелии призывает нас именно к этому.
Обычно не замечают, что в Евангелии содержится не одна, но
две существенно различных заповеди любви. Сравнение их позволяет понять самое важное в человеке.
«Люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 19:19) - напоминает Иисус заповедь Моисеева закона (Левит 19:18). Благочестивый юноша отвечает, что он уже исполнил эту заповедь наряду с другими. Хотя этого достаточно, чтобы иметь жизнь вечную, Иисус призывает юношу к тому, чего нет в заповедях:
«Оставь все и следуй за Мной». Какой смысл имеют слова: «любить ближнего, как самого себя»?
Ведь если говорить о «себе» как о личности, то «любить себя» просто невозможно, как невозможно вытянуть самого себя за волосы
– единичная монада сама на себя обратиться никаким образом не может.
Когда говорится: «любить себя», то, по существу, имеется в виду: «любить свое»
– т. е. все то, что может быть названо «моей собственностью» или «моим проявлением»: мое тело, моя душа, мои чувства, мысли, действия, желания. Про любую из этих реальностей мы можем сказать: «это
– мое», но мы говорим также: «это
– я сам», выражая этим «неотчуждаемость» нашей «собственности». Если, говоря «любить себя», мы имеем в виду «любить свое», то в этом смысле мы можем «любить ближнего как самого себя»
– т. е. любить все его качества или проявления: его тело и душу, как свои собственные.
Эта заповедь не есть специфически евангельская, она имеет характер общечеловеческий и в той или иной форме содержится во всех мировых и национальных религиях: в исламе и буддизме, в конфуцианстве и даосизме, в индуизме, джайнизме, зороастризме, шинтоизме и др. И призывы Фейербаха, Вивекананды или Шардена к человеческой любви не содержат в себе, по существу, ничего, кроме этой вечной заповеди.
Конечно, исполнение ее
– неотменимое дело, достойное тысячелетних усилий человечества, но неизбежно на каком-то уровне достижений наступает момент, когда воля к ее исполнению начинает таять как воск перед саркастической улыбкой какого-нибудь европейского, индийского или японского «Штирнера».
Не потому что он
– эгоист; потому что он
– глубже...
Если бы Христос пришел только для того, чтобы напомнить людям об этой древней заповеди, Он и тогда стал бы одним из великих Учителей человечества. Но Он принес - другое, и поэтому Он
– Единственный.
Лишь одну новую заповедь дал нам Иисус, и она снова
– о любви:
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так вы да любите друг друга» (Ин. 13:34). Уже не
«как самого себя», но «как Я»
– и в этом вся ослепительная новизна.
Христос призывает нас к любви личной, к той онтологической встрече, которая происходит на предельной глубине человеческого существа, там, где нет уже никаких проявлений, где уже ничто не может быть названо «мое», но лишь
– «я сам». Нельзя сказать уже: «я отдаю свое», и даже: «я отдаю себя», ибо нет уже отдающего и отдаваемого.
Это есть единственный акт, котором личность осуществляет свое бытие как личности; вне любви личность не имеет никакой уверенности в том, что она существует, еще чаще даже никакого знания о том, что она существует.
Вне любви, определяя себя лишь по отношению к безличному, личность может постигать себя только апофатическое, т. е. как нечто отличающееся от всего, что дано ей в опыте и может быть с чем-то сопоставлено, как-то названо. Вследствие этого мыслители, шедшие путем персонализма, с какой-то роковой неизбежностью приходили либо к манихейскому дуализму, утверждая, что сущность личности есть «ничто»; либо к спиритуалистическому пантеизму, утверждая, что личность имеет нетварное происхождение, есть «искра» Божественной природы (Эуригена, Экхарт), отрицая тем самым реальность человеческого бытия, как онтологически отличающегося от бытия Божественного.
Если, таким образом, любовь есть единственный способ бытия личности, если природа и сущность личности есть любовь, то мы можем решиться дать новый ответ на древний вопрос «Что есть Человек?».
Ответ этот будет гласить:
«Человек есть Любовь». До сих пор это говорилось о Боге, но лишь теперь начинает проясняться, до какой степени человек Ему подобен...
7 Два мыслителя последнего времени в наибольшей степени приблизили нас к этому пониманию: о. Павел Флоренский, поставивший гуманистический опыт самопознания перед лицом восточно-православной духовной традиции, и Мартин Бубер, в сердце которого новоевропейская культура встретилась с религией Моисея и пророков в ее хасидской интерпретации.
Флоренский пытается осмыслить идею и термин «личность» применяя это понятие к Св. Троице. Терминологически он еще только нащупывает почву, осторожно утверждая:
«Выражаясь несколько неточно, скажу: Ипостась – абсолютная личность. Но спрашивается: В чем же личность,
как не в сущности? И еще: Разве дается сущность иначе как в личности? – Да, и все-таки… не одна ипостась, а три, хотя сущность - конкретно едина. И потому нумерически, числом – один Субъект Истины, а не три (Подч. Флоренским. «Столп и утверждение истины». М. 1914. Письмо 2). Со всей силой Флоренский заново переживает сверхразумность (высшую разумность) христианского догмата, в котором имена «три» и «один» относятся к одному и тому же, что особенно ярко выражено в известном исповедании св. Афанасия:
«Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой; не три Бога, но один Бог!» Фактически переживая и раскрывая Св. Троицу как абсолютную Личность, Флоренский все же не решается прямо назвать Троицу
– Личностью, тогда как только это понятие может придать необходимую отчетливость произведенному им углублению в тринитарный догмат. Именно в том, что Св. Троица есть абсолютная Личность, и в то же время каждая из Ипостасей есть абсолютная Личность
– раскрывается для разума первичная истина нашей веры:
«Бог есть Любовь» (Ин. 4:8; 4:16), ибо Любовью и в Любви три Лица единосущны друг другу.
Три есть одно: Личность Отец, Личность Сын, Личность Дух Святой; Личность Святая Троица!
Взаимная любовь Божественных Лиц служит для Флоренского первообразом любви человеческой, в которой две или «множество» личностей обретают «единосущие»
– именно в этом он видит глубочайшее содержание церковной соборности.
«Любовь, – утверждает Флоренский,
– разумеется не в смысле субъективно-психологическом, а в смысле объективно-метафизическом...
Метафизическая природа любви – в сверхлогическом преоборании голого самотождества Я=Я и в выхождении из себя... В силу этого выхождения Я делается в другом, в не-Я, этим не-Я, делается едино-сущным брату, – едино-сущным, а не только подобно-сущим, каковое подобно-сущее и составляет морализм... Безличное не-Я делается лицом, другим Я, т.е. Ты.
Но в этом-то «обнищании» или «истощании» Я, этом «опустошении» или «кенозисе» себя происходит обратное восстановление Я в свойственной ему норме бытия... Напротив, б е з уничижения Я владело бы своею нормой лишь в потенции, но не в акте. Любовь и есть «да», говоримое Я самому себе; ненависть же – это «нет» себе.
Непереводимо, но выразительно эту идею Р. Гамерлинг отчеканивает в формуле: das lebhafte Sich-selbs-besahen des Seins – живое себе-самому-да бытия... Подымаясь
н а д границами своей природы, Я выходит из временно-пространственной ограниченности и входит в Вечность. Там весь процесс взаимоотношения любящих есть единый акт, в котором синтезируется бесконечный ряд, бесконечная серия отдельных моментов любви.
Этот единый, вечный и бесконечный акт есть едино-сущие любящих в Боге, при чем Я является одним и тем же с другим Я и, вместе, отличным от него» («Столп». Письмо 4). К недостаткам учения Флоренского следует отнести прежде сего ослабленное восприятие образа: ипостасное различие Божественных Лиц, абсолютное своеобразие Каждого из Них, столь энергично подчеркиваемое в святоотеческом богословии, у Флоренского несколько стирается, становится чем-то вторичным перед тем фактом, что каждая из Ипостасей есть абсолютная Личность.
Пытаясь построить типологию видов человеческой любви, он сопоставляет с Божественными Ипостасями триаду отношения: Я -Ты - Он (эту идею развивал впоследствии о. Сергий Булгаков)
– но каждая конкретная человеческая личность, входя в различные триады, может выступать под любым из этих трех аспектов. Сама по себе человеческая личность оказывается лишенной качественной определенности; в любви, как ее понимает Флоренский, онтологически утверждается лишь тот факт, что личность реально есть, но не осуществляется откровения о том, какая именно она личность.
К постановке этого вопроса вплотную подходит В. Н. Ильин
(«Преподобный Серафим Саровский». 1971): «Как все лица Триединого Бога единосущны друг другу и в то же время каждое обладает Своим свойством и Своим ликом, так есть и люди, в которых запечатлена та или иная сторона 'триады светящаго Света'»... В частности, о Преподобном Серафиме В. Н. Ильин высказывал предположение, что он
«среди святых явно носит печать Бога-Саваофа, Бога-Адонаи по преимуществу» (т. е. Боге Отца), тут же, однако, предостерегая, что знание подлинного Образа или Имени человеческой личности дается только в прямом Божественном Откровении.
Если Флоренский, утверждая онтологию личности, отчасти теряет ее логистическое, образное, «иконное» начало, то Ильин выдвигая это начало на первый план, оказывается перед другой опасностью: смешать личность с ликом, лицом, образом.
Между тем, в личности, как Божественной, так и человеческой,
ее сущность, ее образ и акт ее бытия – суть одно и то же. Рассматривая Св. Троицу как Первообраз соборности, обратим внимание на тот факт, открываемый в мистическом опыте Церкви, что абсолютное качественное своеобразие каждого Божественного Лица, только этому Лицу присущий образ заключается в том, как именно это Лицо относится к двум другим Лицам, т. е. в том, как и кого это Лицо любит.
В силу этих взаимных отношений
каждая Божественная Личность и есть Лицо, или Ипостась; потому и нельзя говорить о «лице Св. Троицы», что все отношения заключены внутри Нее (здесь мы развиваем идею Фомы Аквината о том, что «лицо есть отношение»
– поскольку речь идет о Лицах Божественных).
Отец любит Сына и Духа Святого иначе, чем Сын любит Отца Духа Святого, или чем Дух Святой любит Отца и Сына. Каждая Божественная Личность не только подлинно есть, т.е. любит и любима, но она также есть, т. е. любит и любима абсолютно определенным образом
– и это есть тот Первичный Образ, который ни к чему далее не сводим, но к которому, напротив, должно быть сводимо все существующее.
В первую очередь, это должно быть справедливо для человеческой личности, которая осуществляет свое бытие, т. е. любит
– только ей одной свойственным образом, и при этом каждую другую личность по-разному.
Собор, таким образом, есть не только единство онтологическое, простирающееся до единосущия, но он есть также единство прекрасное, единство гармонии и строя: живой кристалл, многообразно отображающий абсолютную гармонию и красоту Св. Троицы. Не случайно заповедь преп. Сергия:
«Взирая на единство Св. Троицы, побеждать ненавистное разделение мира сего», столь убедительно дополнена великим творением Андрея Рублева. Созерцание его иконы Троицы лучше всяких доказательств убеждает в том, что для русского религиозно сознания идеал соборности носил духовно-конкретный характер, воспринимался как высшая Красота, имеющая вполне определенный и абсолютный Первообраз.
Идеи Флоренского не случайно оказали влияние именно на тех мыслителей, которые стремились развивать богословие имени, богословие образа: таковы В. Эрн, В. Н. Ильин, о. Сергий Булгаков, «богослов в поэзии»
– Вяч. Иванов. К сожалению, весь этот круг идей не получил достаточно широкого распространения, отчасти из-за наличия многих ошибок и недоговоренностей самих авторов, отчасти потому, что догматический язык свято-отеческого богословия почти потерял свой живой религиозный смысл для большинства современников.
Мартин Бубер, проникнутый иудейским реализмом, далеким от эллинской логистической традиции, сумел засеять своими интуициями более обширное поле, хотя в России он еще почти не известен. Между тем, его переживание любви глубоко родственно идеям Флоренского.
Бубер утверждает, что Я не существует само по себе, но лишь в одном из двух сочетаний: Я-Ты или Я-Оно. Мир «Оно» объемлет почти все реальности человеческого бытия:
«Я что-то воспринимаю, Я что-то ощущаю, Я что-то представлю, Я что-то чувствую, Я что-то мыслю. Человеческая жизнь не сводится ко всему этому и подобному. Все это и подобное этому утверждает царство Оно... Что изменится,
если к “внешнему” опыту присоединить опыт “внутренний”?.. Внутренние ли, внешние ли вещи – вещи среди вещей!.. Что изменится, если к “явному” опыту присоединить опыт “тайный”? О таинственное без тайны, о накопление сведений! Оно, всегда оно!» (М. Бубер. «Я и Ты»). Миру Оно Бубер противопоставляет мир Ты, в котором только и осуществляется подлинная реальность человека. Отношение Я-Ты он понимает не как психологическое переживание, но как онтологический акт.
«Ты встречает меня через благодать, – говорит Бубер,
– оно не приобретается в поиске. Но когда я говорю ему первичное слово, это есть акт моего существа, акт, которым осуществляется мое бытие... Первичное слово Я-Ты может быть сказано лишь всем существом. Сосредоточение и слияние всего моего существа не может осуществиться ни через меня, ни помимо меня. Я становлюсь собой лишь через обращенность к Ты, – становясь Я, я говорю Ты. Всякая подлинная жизнь есть встреча» (там же). Нет в человеческом языке слова, имеющего столько разных оттенков, столько значений, как слово «любовь». И это
– не случайно, т. к. первичная реальность пронизывает своими излучениями весь мир на всех уровнях; многозначность слова, выражающего принцип мирового единства, свидетельствует о «многоэтажности», «многослойности» бытия, от неодушевленной материи до человеческой личности
– если ограничиться бытием сотворенным.
Неумение видеть глубину бытия приводит к смешению уровней, к «сплющиванию» бытия в плоскость, к обесцениванию, обессмысливанию высших реальностей. Бубер, описывая любовь как онтологический акт, предостерегает от смешения этого акта с любовью-эмоцией, любовью как переживанием, хотя бы и самым глубоким.
«Чувства, – утверждает великий ученик хасидов,
– сопровождают метафизический факт любви, но не составляют его… Чувства испытываются, любовь случается. Чувства пребывают в человеке, человек же пребывает в своей любви. Это не метафора, а действительность... Не знающий этого, не знающий всем существом своим, не знает любви, хотя он и может принимать за нее те чувства, которые он испытывает, которыми наслаждается и которые выражает. Любовь охватывает своим воздействием весь мир. Для пребывающего в любви и оттуда смотрящего люди освобождаются от пут суетливой деятельности; хорошие и дурные, мудрые и глупые, прекрасные и безобразные, один за другим приобретают подлинность и предстают ему как Ты, то есть освобожденными и единственными... Здесь рождается то, что невозможно ни в каком чувстве – равенство всех любящих наименьшего до величайшего, и от того благохранимого
человека, чья жизнь замыкается в жизни единственного любимого существа, до того, у кого достало сил и отваги дойти до страшной точки – любить всех людей». 8 Всецело соглашаясь с Бубером в его выделении мира Я-Ты как высшего онтологического уровня и его понимании любви как единственного «способа бытия» личности, мы должны сказать несколько слов в защиту мира Оно. Бубер, по существу, не решает (хотя бы в переживании) вопрос о том, как же связаны между собой два уровня или два измерения бытия: Я-Ты и Я-Оно, вследствие чего мир Оно оказался у него отчасти подвергнутым несправедливому остракизму, отчасти же искусственно «втянутым» в мир личного отношения.
Для решения проблемы мы снова оказываемся вынужденными прибегнуть к сокровищнице православного богословия
– в данном случае к общепринятому на Православном Востоке учению св. Григория Паламы о Божественных энергиях.
Палама различает Божественную природу как сущую «в себе», и ту же природу, как проявленную «вовне». Как сущая в себе, Божественная природа абсолютно непознаваема и неприкасаема для человека «ни в сем веке, ни в будущем» (тварный образ этой трансцендентности мы как раз и видим в природе человеческой личности), тогда как Божественная природа, проявленная или излившаяся «вовне», образует собой то, что мистики-боговидцы называют областью «окрест Божества», областью Божественной Славы и Полноты.
Несотворенная Божественная Энергия, способная, однако, проникать в недра сотворенных существ, была показана Христом в виде Фаворского света.
О проникновении Божественной энергии в человеческую душу и тело свидетельствуют многие христианские подвижники. Одно из последних по времени (1831 г.) и наиболее впечатляющих описаний такого благодатного посещения оставил Н. А. Мотовилов, рассказавший о своей встрече с преподобным Серафимом. Описание это стало излюбленным народным чтением в России и оказало заметное влияние на формирование русского религиозного сознания, всегда бывшего склонным к мистическому реализму подобного рода.
Исходя из первичной идеи о сообразности человека Богу, мы должны принять, что человеческая личность, подобно Личности Божественной, также способна изливать свою собственную сущность вовне в виде духовных энергий: переживаний, идей или актов воли. Эта область человеческого духа наиболее непосредственно примыкает к личности и является по преимуществу сферой мистической, духовной
жизни.
Христианские подвижники на протяжении многих столетий практиковавшие такую жизнь, настойчиво подчеркивают отличие этой сферы от мира обычного или душевного чувства, мышления и воления. Предварительное «умерщвление» природной, естественной, душевной жизни служит у этих подвижников необходимым условием для пробуждения или выявления жизни духовной.
Необходимость таких чрезвычайных усилий для пробуждения духовной жизни служит убедительным доказательством принципиального отличия духовной сферы
– от душевной, или природно-космической жизни. Духовная жизнь неразрывно связана с онтологической личностью, которая у подавляющего большинства людей
– за исключением редких, но критических и решающих моментов жизни
– влачит латентное, подспудное существование. Активизация духовной жизни способствует пробуждению личности и, наоборот, вхождение личности актом любви в реальность своего бытия производит огромное воздействие на духовною жизнь, вызывая мощное истечение духовных энергий. По отношению к другим слоям человеческой души это истечение воспринимается как своего рода преобразующая сила или творческий импульс.
Вопреки Буберу, «Оно» в его первичном смысле не есть нечто противостоящее личности, но есть энергия самой этой личности.
Можно даже сказать в духе Шеллинга, что Оно есть «инобытие» Я, если только понимать под Я не субъект познания, но онтологическую личность.
Можно сказать, что личность
– это и есть дух в его непроявленном, «апофатическом» аспекте, но тот же дух обладает проявленным бытием, изливаясь вовне как энергия личности. Однако слишком часто, говоря о духе, подразумевают лишь его внеличностный, энергетический аспект (иногда еще хуже
– лишь логистический аспект энергии), упуская из виду собственно личность. Это
– одна из причин, по которой антропология не может строиться лишь на понятии духа, без фундаментальной идеи личности.
Духовная жизнь в «окололичностной сфере» не прекращается и при отказе личности от своего онтологического укорененияв акте любви
– но тогда она принимает по преимуществу негативный, страдательный характер, а сама личность воспринимается как нечто, лишенное бытия, как «ничто». Об этом свидетельствует современный экзистенциализм, открывающий нам мир «метафизических эмоций», связанных с переживанием онтологического одиночества, абсолютной и беспредметной свободы, «выброшенности в бытие» и неутвержденности в нем.
«В ужасе бытие испытывает свою собственную необоснованность – пишет Хайдеггер,
– свою полную зависимость от за ним стоящего
«Оно», – от «бросателя», которому оно обязано своей «брошенностью». Ужас ставит существование на край пропасти, из которой оно произошло, – лицом к лицу с Ничто» («Бытие и время»). К области духовной жизни относится и догматический разум, нормой» которого являются не природные объекты, но Триединый Бог. Флоренский, стремящийся найти в разуме способность вместить» абсолютную Истину, т. е. знание о Боге, заставляет нас пережить «умирание» естественного разума, подчиненного аристотелевским логическим законам, прежде всего, закону тождества.
Добавим от себя, возражая против некоторых крайностей Флоренского, что такой естественный разум способен в известных пределах познавать истину о Боге, т. е. способен принимать на себя
– через Откровение и рационалистическую проекцию Догмата
– печать высшей Божественной реальности. Пределы возможностей естественного разума вряд ли обозначены где-нибудь лучше, чем в грандиозном интеллектуальном синтезе Аквината и его продолжателей. Но, как со всей силой свидетельствует Флоренский,
– и здесь он, вероятно, оказывается первым среди философов,
– естественный разум, скованный законом тождества, в конечном счете неадекватен Богу, в Котором Три равно Одному. Духовный разум, выступающий вначале негативно, как некий «пирронический» огонь скептицизма, «выжигающий» собой природный интеллект,
– успокаивается, находит свой принцип лишь созерцании Св. Троицы, как Она представлена в Православном догмате.
Также и духовные переживания, связанные с Богообщением, качественно отличаются от естественных человеческих «эмоций», хотя и глубоко им созвучны. Духовные переживания как бы имеют другую «субстанцию», сотканы из другого «материала», чем природные чувства
– об этом настойчиво свидетельствуют христианские мистики, прошедшие крестный путь «умерщвления страстей».
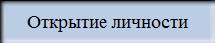
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------