Вестник РСХД 1975
1
Как заметил еще Хомяков, две цели – неразрывно связанные и взаимно противоборствующие – определяют духовные искания современного человечества: это, с одной стороны, воля к единству и, с другой, – стремление к максимальному развитию или раскрытию личности.
Представление человека о себе самом лежит в основе всякого человеческого идеала: открывая себя, человек тем самым и формирует себя, самосознанием в значительной степени определяется и его поведение. В этом представлении человека о себе, самом и своих ближних концентрируется весь жизненный опыт, кристаллизуются все таинственные движения воли, все падения и взлеты, откровения и отречения, заблуждения и прозрения, наследственность и воспитание, капризы судьбы и Божий Промысел, влияние среды и личное дерзновение. Человек сам для себя есть таинственный иероглиф, реальность бесконечно многогранная и бездонно глубокая. Господствующее представление о человеке определяет лицо эпох.
«Микрокосм» средневековья, творец и художник Ренессанса, искатель бесконечного в «фаустовской культуре», «общественное животное» марксизма, ницшевская «ступенька к сверхчеловеку», фрейдовский клубок психических импульсов, «Божественный атом» оккультистов, шарденовский «вихрь в ноосфере», индийский «луч Атмана» – любая концепция человека ставит его в центр системы ценностей, делает узлом силовых линий, главной вехой жизненной ориентации.
На переломе эпохи неизбежно выдвигается на первый план то, что Шпенглер назвал бы творением нового «мифа», Сартр – «изобретением», а мы назовем – новым открытием человека. Ибо простая добросовестность требует признать, что после многих исканий человек сам для себя – по-прежнему загадка сфинкса, неоткрытый мир, неизведанная земля.
Сейчас в центре всеобщего внимания – проблема гуманизации общества. Но не сводятся ли предлагаемые решения – к тому или иному представлению о природе человека и, в связи с этим, о природе человеческого единства?
Что такое человек, что связывает людей между собой, что, конечном счете, человеку нужно – только решение этих вопросов позволяет нам избрать направление нашей воли в созидании исторических реальностей, позволяет сделать сознательный выбор жизненной цели, придает конкретное содержание общегуманистическим идеям. Но всякая грубая ошибка в представлении о человеке приводит к неизбежному крушению всей системы ценностей, ибо рано или поздно выясняется, что реальный человек выдвинутому идеалу совсем не соответствует. Это уже произошло с идеалом коммунизма везде, где он начал осуществляться, еще раньше это произошло с христианизированными идеалами средневековья, признаки агонии являет гуманистический идеал возрождения.
Что же идет на смену?
Какие обломки пригодны для будущего строительства?
Устоял ли евангельский фундамент?
Один из авторов сборника «Из-под глыб» (А. Б.) оптимистически утверждает:
«Несмотря на все заблуждения и отречения, мы живем в «христианской культуре, в христианской эпохе и именно христианство то бродильное начало, те «дрожжи мира», на которых взошла и будет всходить, как тесто в квашне, история».
Все так. Но в то же время было бы непростительной ошибкой думать, что после пережитого крушения христианского мира достаточно просто вернуться к прежним идеалам. История не повторяется; претерпев тяжелое поражение, мы лишь в том случае обретем новую надежду, если в самом христианстве откроем новую глубину, новое измерение, скрытые потенции, которые не были реализованы в прошедшую эпоху.
«И того, кто покоренный, под пятой победителя, – говорит Экзюпери в своих дневниках, – найдет в себе силы для преображения, я считаю достигшим большей победы, чем того, кто смакует свою вчерашнюю победу, как осевший собственник, питающийся накоплениями и поэтому уже приближающийся к смерти».
2
Средневековое представление о человеке кажется сейчас весьма наивным: впрочем, оно и по сию пору широко распространено в бытовом сознании.
«В человеке мы можем установить, – утверждал Фома Аквинат, – наличие четырех вещей: его разума, делающего его подобным ангелам; сил чувствующей души, делающих его подобным животным; его природных сил, делающих его подобным растениям; и его тела, в котором он подобен неодушевленным предметам. Разум в человеке занимает место хозяина или господина...» (Сумма теологии, 1. Вопр. 96).
Граница между «ангелом» и «зверем», разделившая «разум и «чувства» (перекликаясь еще с античным противопоставлением логоса и хаоса) прежде всего унижает эмоциональный мир человека, усматривая в нем по преимуществу животное начало.
Такое принижение вызвано, конечно, требованиями средневекового аскетического идеала, стремящегося всячески умалить достоинство душевно-телесной, в особенности половой жизни – этого корня эмоционального мира.
Восточно-православные аскеты были, по крайней мере, более последовательны, отстраняя всю сферу пораженной грехом естественно-природной жизни, включая в нее и человеческий рассудок. То, что они в известном смысле были правы, показывают современные наблюдения над миром животных, колеблющие претензию человека быть единственным обладателем разума в природе. Сейчас мы спрашиваем – чем отличается разум человека от разума животных – но это уже совсем другой вопрос!
Не удивительно, что «ангел», столь «скромно» представленный в человеке, был, в конечном счете, отставлен в сторону, хрупкая перегородка, отделявшая в средневековом сознании человека от животного, сломалась при первом же серьезном натиске.
Самый сокрушительный удар нанес Дарвин.
Невольно выступив в роли нового «змея-искусителя», это кропотливый, но бескрылый собиратель «фактов» сказал человеку: ты – не сын Божий, ты – животное, прямой потомок обезьяны; что же касается разума, то почему бы одному из видов животных не стать разумнее других, если разум дает преимущества в «борьбе за существование» и «половом отборе»?
Будем откровенны – от этого удара мы, христиане, не можем прийти в себя до сих пор! Теория эволюции застала нас врасплох, и мы лишь обороняемся, лишь заделываем – с большим или меньшим успехом – дыры в нашем миросозерцании, и с вопросом о происхождении человека дело обстоит хуже всего.
И не сами ли наши схоласты подготовили почву для Дарвина, лишив человека его царственного достоинства, «урезав» его на уровне интеллекта? Неужели в человеке нет ничего выше и глубже естественного разума, ничего, что утвердило бы его онтологически за пределами природы? Не потому ли рухнул средневековый антропоцентризм, что это был антропоцентризм слишком робкий, слишком непоследовательный?
Отождествление духа и личного начала с интеллектом дошло до нашего времени. Так, Людвиг Клагес в своей книге «Дух как противник души» (1930) – призывает вернуться от власти «духа-рассудка» к доличному, к первоистокам, «в ночь смерти», – к языческой немецкой мистике. Однако новая католическая мысль, возрождая традицию св. Бонавентуры, стремится преодолеть это отождествление. Дух и сердце человека, утверждает Романо Гвардини, находится по ту сторону противоречия рационального и иррационального.
После Дарвина в науке уже не обсуждался вопрос – животное ли человек, но лишь – какое именно он животное? Маркс настаивал, что человек – животное социальное, которому прежде всего надо есть и пить и для этого заниматься производством (прочее – «надстройка»); Фрейд доказывал, что человек есть животное прежде всего пансексуальное (прочее – «надстройка»).
Ницше, эстет Ницше призывал «превзойти» человека. И что же это значило? Да всего лишь вывести новую породу, новую «расу»: «что человек в отношении обезьяны, то сверхчеловек в отношении человека»! Неистовый проповедник свободы духа оказался всего лишь проводником материалистических настроений своей эпохи, подголоском дарвиновского эмпиризма.
«Ты – тело, только тело и ничего, кроме тела», –
так отчеканил Ницше «революцию» в человеческом самосознании, – и мы до сих пор пожинаем горькие плоды этой революции.
Уже в нашем веке Веркор, поставивший в своей нашумевшей книге вопрос «Люди или животные?», – так и не смог найти критерий, позволяющий провести эту границу для существ «промежуточного типа», какими представлялись тогда австралийские аборигены. В силу предполагаемой непрерывности перехода от животного к человеку, граница эта становилась условной, размытой, не имеющей никакого онтологического основания. Конечно, душа человека всеми силами протестует против такого смешения, но удалось ли найти убедительную альтернативу дарвиновской концепции человека как высшего звена в эволюции животного мира?
Представление о человеке всегда порождало соответствующий идеал человеческих отношений, человеческого единства.
Века христианства неизгладимо врезали в сердца людей убеждение, что любовь – это высшее, к чему призван человек.
Поколение за поколением вслушивались в слова апостола Павла, звучавшие с церковного амвона:
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело на сожжение, а любви не имею: нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13:1-3).
Вслушивались – и не исполняли, ибо всем было ясно, что условием осуществления любви служит полное отречение от мира, не только духовное, но и видимое, внешнее.
Только в монастырях иногда возрождалась древнехристианская традиция «агапэ» – братской любви, когда «у множества… уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения не называл своим, но все у них было общее» (Деян. 4: 32).
Но и в монастырях это было редким исключением. «Всех люби, от всех беги», – учил основатель монашества Антоний Великий. В монашеском же общежитии господствовал дух трезвой и суровой дисциплины.
К сдержанности вынуждал горький опыт. Все попытки чрезмерного сближения вызывали к жизни низменные страсти, а при сохранении аскетической установки – гордыню, жестокость, нетерпимость.
Нравственный провал монтанистов и донатистов, бесплодно пытавшихся возродить древнехристианское братство; бесчеловечность гностиков с их кастой «пневматиков» или «духовных», которым «все позволено»; повторение того же у катаров, альбигойцев, анабаптистов, «левых» таборитов – все это не создавало особых иллюзий насчет способности человека к осуществлению заповеди взаимной любви.
И все же заповедь жила, жила как мечта, как идеал, как устремление, и что-то самое глубокое в душе человека неизменнооткликались на этот призыв:
«Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога...» (1 Иоан. 4: 7).
Разительное несоответствие идеала и реальности порождало трагизм мироощущения средневекового человека. Этот трагизм коренился в чувстве глубины, многоплановости человеческой души, в созерцании ее иерархического строя, постоянно нарушаемого грехом. Теперь, по прошествии веков, можно упрекнуть средневековье в том, что это чувство глубины было все еще недостаточным, в том, что готический собор духа слишком стремительно рвался прочь от земли, казавшейся неисправимо греховной. Но без этой жажды Богоподобия, без этой достигнутой высоты, без этой накопленной энергии невозможен был и человек Возрождения. Нельзя было овладеть землей, не освободившись прежде от ее чар... Освободились ли?
Не так уж много времени понадобилось человеку, чтобы снова забыть о своем Богоподобии, потерять набранную высоту, растратить духовную силу. Трагизм был «преодолен»: низведя человека на уровень «сына Земли», сплюснув его в плоскость разумного животного», пантеисты разом решили все мучительные проблемы!
Фейербах в роли учителя любви!
Что может быть проще – все люди имеют одинаковую природу, и, любя ближнего, мы любим в нем Человека как такового, любим его как члена единого человеческого рода, коллективного целого, к которому мы сами принадлежим. И только!
«Здоровому индивидуализму» также было уделено должное место. Русский двойник Фейербаха – Чернышевский учит «разумному эгоизму». Любить ближнего – «выгодно, целесообразно, разумно».
Заимствованный у христианства пафос любви через Фейербаха и Чернышевского заразил немецких и русских социалистов, придав их конспиративным сходкам черты, напоминающие древнехристианские катакомбы.
«Человек произошел от обезьяны, и потому положим души свои за други своя», –
иронизировал Соловьев над революционерами конца XIX века.
Но недолго сохранялся украденный пафос. Совместно пролитая кровь быстро превратила рыцарский орден – в уголовную мафию, а трезвые дельцы от революции потребили самоотверженный порыв, сублимировав его в «мерную поступь железных батальонов пролетариата»...
3
Именно там, где началась мировая катастрофа, были приложены и наиболее творческие, созидательные силы духа, не успевшие принести зримых плодов, но подготовившие почву для грядущего возрождения.
В числе важнейших неисполненных заветов русской религиозной мысли находим выдвинутый еще славянофилами идеал «соборности», так и не успевший сформироваться до той энергетически насыщенной отчетливости, которая необходима для воплощения в жизнь любого идеала.
Замысел славянофилов прост и смел до безумия: здесь, на земле, осуществить всеобщее Христово братство; здесь, на земле, построить жизнь, подобную жизни небесной; здесь, на земле, преобразить мир в красоте и свободе Святого Духа. Не выдерживающий никакой разумной критики, чреватый страшными срывами, этот замысел преисполнен библейского величия, вдохновлен истинной любовью и доверием к Творцу. Среди серых будней грешного человека, сквозь тепловатую бытовую религиозность, мимо профессорской учености и пастырской елейности - проносится дуновение подлинной веры и святости. Уже не риторическим поучением, но огненным пророчеством воспринимаются столь знакомые слова преп. Сергия:
«Взирая на единство Святой Троицы, побеждать ненавистное разделение мира сего».
Разве это не отклик на евангельский призыв, перед которым изнемогает дух человеческий:
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный»?
«Прежняя ошибка, – утверждал Хомяков, – уже невозможна, человек не может уже понимать вечную истину первобытного христианства иначе, как во всей ее полноте, т. е. в тождестве единства и свободы, проявляемых в законе духовной любви. Таково Православие. Всякое другое понятие о христианстве отныне сделалось невозможным...»
Рассмотрим одну из наиболее поздних формулировок славянофильской идеи соборности.
На Поместном Соборе Русской Церкви 1917-18 гг. в оставшейся нерассмотренной, но глубоко содержательной статье-речи А. В. Васильева («Патриаршество и соборность») идея соборности возводится, в духе преп. Сергия, к тринитарному догмату:
«Православно понимаемая соборность... объединяет в себе совет и священноначалие. Прообраз соборности Триединый Бог; (выделено А. В. Васильевым – Л.Р.) при равночестности Божественых Лиц в Нем есть и священноначалие. От Единого источного Начала – Отца рождается Слово - Сын и исходит Дух Святой... И весь мир, и все населяющие его Богозданные твари носят в себе в меру большего или меньшего их совершенства, образ и подобие своего творца... Человек в его отдельности еще не венец Божественного творчества...» (Деяния Собора. Приложение 3 к Деян. 31. М. 1918).
Здесь в осторожной форме высказывается антропологический тезис исключительной новизны и важности. Неоднократно предпринимались попытки увидеть в человеке непосредственный образ Святой Троицы – в соответствии с абсолютным своеобразием каждого из Божественных Лиц, коих постигает церковный опыт и догматическое предание. Однако до сих пор предполагалось найти полноту этого образа в одном отдельно взятом человеке. Так, бл. Августин видел отображение трех Божественных Лиц: Отца, Сына и Св. Духа – в трех началах человеческой души: в ее бытии, в ее разумности и в ее воле. Иногда вместо «бытия» называют чувство или непосредственное переживание. Очевидный недостаток подобных концепций – в том, что личные начала св.Троицы ставятся в соответствие безличным началам человеческой души, сама же человеческая личность, носительница бытия, разума и воли, оказывается как бы лишенной образа. Формулировка славянофильских идей Васильевым наводит на мысль, что совершенным образом Св. Троицы является не отдельный человек, но всечеловеческий собор, связанный, как и Лица Св. Троицы, онтологическим единством и взаимной любовью.
«Православное понимание соборности – продолжает Васильев, – содержит в себе понятие вселенскости, но оно – глубже, указывает на внутреннюю собранность, цельность, как в отдельном человеке его душевных сил: воли, разума и чувства, так и в отдельном обществе и народе – на согласованность составляющих его организмов - членов... Как отдельный человек, так и целый народ – целен, здоров, когда между его частями и членами, между управляющими и управляемыми господствуют мир и взаимное благоволение и доверие, достигаемые готовностью к самоограничению и самопожертвованию».
Соборность понимается здесь по образу единства органического, наилучшим выражением которого является человеческое тело. Сравнение человеческой общности с телом или организмом не ново: его использует известная древняя притча в связи с идеей государства. Апостол Павел подробно развивает учение о Церкви как о едином теле, главой которого является Христос. Но вот в чем решающая трудность: каждый член или клетка этого тела есть самосущая человеческая личность – и здесь органически сравнения себя исчерпывают.
Коренной недостаток славянофильского идеала соборности – в ошибочном понимании человеческой личности лишь как лица, как своеобразной индивидуальности, как части по отношению целому, как одного из аспектов целого.
Понятие соборности возводится к Собору Лиц Святой Троицы, которые, действительно, хотя и равночестны, но не равны, не одинаковы – их свойства, ипостасные качества абсолютно различны. Но нельзя упускать из виду то, что является общим для всех Лиц Св. Троицы – именно то, что Каждое из Них есть прежде всего Личность, Божественное Я («Аз»):
«Аз есмь Бог твой», –
может сказать Отец, может сказать Сын и может сказать Дух Святой.
Также и каждый член Церкви есть прежде всего личное тварное «Я», и в этом – общее всем членам Церкви, независимо от их индивидуальных свойств и выполняемых в церковном соборе служений. Ни атом, ни клетка, ни орган тела – хотя они могут нести в себе индивидуальные начала или «модусы», не являются личностями, не имеют собственного «я» как своей онтологической первоосновы.
Нелепо звучало бы утверждение, что какое-либо из Божественных Лиц есть «часть» Тройческого Собора. Столь же недопустимо утверждение, что отдельный член Церкви, отдельная личность – есть «часть» Собора Церковного.
И любовь церковная, невозможная без признания онтологии личности, есть нечто большее, чем «пожертвование своим частным правом, если это необходимо, для пользы других, для общего мира, для пользы целого» (А.Васильев).
Такое понимание соборности сводится, в конечном счете, к добровольному и смиренному подчинению каждого индивидуума – закону, понимаемому как норма существования целого, как благо целого, необходимое для блага отдельных частей. Подлинная же любовь церковная добивается того, чтобы свободное хотение каждой личности, исходящее из ее собственной глубины, оказывалось в гармоническом согласии с волей других личностей, образующих Собор. Соответственно и свобода лица, входящего в Собор, в первом случае воспринимается как осуществление частного права, во втором – как проявление онтологического достоинства личности.
В первом случае единодушие Собора, следование общей истине, осуществляется через самопринуждение каждого члена к отсечению тех индивидуальных стремлений, которые не соответствуют здоровью и благу всего Собора в целом; во втором случае общая жизнь в любви-истине осуществляется через свободное, никаким законом не понуждаемое следование каждого лица, входящего в целостный лик Собора, – действующему в каждом члене Духу Святому, с Которым собственная воля личности оказывается в тончайшем согласии.
Очевидно, что оба рассматриваемых аспекта соборности выдают общее соотношение «закона и благодати»: добровольное подчинение закону есть предварительное условие освобождения и очищения личности, «детоводительство» к подлинной соборности, воспитание способности каждой личности быть свободной, не впадая в грех, ибо грех есть «преодоление» закона не к свободе, а к рабству.
Если же этот предварительный этап: подчинение закону – рассматривается как конечная цель, то тем самым закрывается путь к высшей церковной жизни в Св. Духе, которая только и есть истинная соборность; более того, возникает соблазн осуществления «соборности» уже не путем добровольного взаимного «покорствования», а путем прямого духовного насилия целого над индивидуальным, общего над частным, власти – над подвластными.
И тогда возникает опасность духовной смерти соборного организма при сохранении его внешних (впрочем, неизбежно искаженных) форм, т. е. превращения организма – в механизм, собора – в коллектив, гармонии иерархического и общественного начал – в «демократический централизм» по-большевистски.
Пережитый Россией трагический опыт коммунистической лжесоборности, при которой личность неизменно приносилась в жертву интересам коллектива, интересам целого, – заставляет сделать жизненный вывод глубочайшей важности: отдельный человек есть такая же ценность, как и все общество в целом, личность не есть часть чего-либо, она равна целому.
И если до этого опыта можно было утверждать, что «в соборности находит себе признание и утверждение личность с присущими ей особенностями, ставящими ее в определенное соотношение к другим личностям и к целому, которого они являются частями» (Васильев, там же), то в наши дни такое понимание личности уже вызывает непосредственный нравственный протест.
В. Борисов в статье «Национальное возрождение и нация-личность» (сборник «Из-под глыб») с предельной определенностью формулирует новый взгляд на соотношение личности и соборности:
«В противоположность индивиду личность – не часть какого-либо целого, она заключает целое в себе. Личность не дробит единой природы, но содержит в себе всю ее полноту. Человечество не есть простая совокупность его частей, но определенная иерархия, каждая ступень которой, обладая личностным характером, обладает той же полнотой, что и целое».
Как ни парадоксально, эта истина косвенным образом подтверждается даже опытом коммунистической идеократии, ибо зло способно лишь искажать строй бытия, но не может создавать или отменять онтологические реальности. Так, идеократическое общество, в котором угашено сознание личного достоинства каждого, с роковой неизбежностью становится жертвой и орудием одной личности, стремящейся навязать по возможности большему числу людей свою волю, стать объектом по возможности более широкого почитания и преклонения.
Здесь, таким образом, личность – не каждая, а лишь одна – также оказывается в известном смысле равной обществу в целом: она и не больше этого целого, ибо сама по себе, без насыщения энергиями идолопоклонства, она пуста и бессодержательна, в мыслимом пределе она есть пустое место, духовное ничтожество – ничто.
Тоталитарный опыт нашей эпохи не есть лишь демонстрация победы коллективизма над индивидуализмом, он в такой же степени есть демонстрация торжества индивидуализма над коллективизмом, ибо в идеократическом обществе коллективное целое есть также ничто по отношению к личности вождя.
Не случайно две формы идеократии, выросшие из диаметрально противоположных предпосылок: ницшеанского индивидуализма и марксистского коммунизма – оказались столь разительно сходными между собой в реальном воплощении.
4
Что же такое личность?
Как выясняется при ближайшем рассмотрении, в это фундаментальное для антропологии понятие разными авторами вкладывается существенно разное содержание.
В. Борисов, следуя Достоевскому, настаивает на применимости понятия «личность» не только к человеку, но и к нации и, в конечном счете, ко всему человечеству, утверждая, что это не подрывает «абсолютного значения индивидуальных личностей», соборно включенных в один из этих внутренне целостных «уровней в иерархии христианского космоса».
В своем анализе Борисов опирается на святоотеческое понятие «ипостась», которое он считает равнозначным с терминами «лицо» и «личность». Это отождествление устраняет ряд недоумений по поводу таких выражений, как «нация есть личность». Действительно, нет оснований возражать против утверждения, что «нация имеет лицо», или даже против такого словоупотребления как «ипостась нации». Но если догматический термин «ипостась» действительно почти совпадает с понятием «лицо», то этого нельзя сказать о термине «личность».
Вот важнейший аргумент, опирающийся на церковное переживание Св. Троицы: мы можем сказать, что Св. Троица есть Личность (мы обращаемся к Св. Троице со словом «Ты», и Св. Троица обращается к нам со словом «Я»), но недопустимо говорить об «ипостаси» или «лице» Св. Троицы.
Ипостась (по наиболее разработанному определению, принадлежащему Аквинату) есть конкретное существование Божественной природы или сущности, причем в Боге это конкретное существование в Трех Лицах действительно не дробит единую природу, что подчеркивается догматическим определением о единосущии» Лиц Св. Троицы. В применении к человеку Аквинат определяет ипостась как «индивидуальную субстанцию разумной природы», причем различие субстанции и природы выражает характерное для томизма различение между существованием и сущностью.
Согласимся мы или нет с этими определениями, можно утверждать, что этот круг идей не отвечает на основные вопросы, связанные с понятием личности.
Вл. Лосский, уделивший идее личности центральное место в своем богословии, в конце своего пути приходит к пессимистическому выводу:
«...Уровень, на котором ставится проблема человеческой личности, превосходит уровень онтологии, как ее обычно понимают. И если речь идет о некоей метаонтологии, один только Бог может знать ее, Тот Бог, Которого повествование Книги Бытия являет нам приостанавливающимся в Своем творчестве, чтобы сказать в Совете Трех Ипостасей: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» («Богословское понятие человеческой личности». Богосл. Труды. 1967. Сб. 14).
Здесь становится неизбежным небольшое отступление о природе догматического творчества.
Тот факт, что в святоотеческом богословии по существу отсутствует понятие «личность», может вызвать смущение: если св. Отцы, опиравшиеся на глубокий опыт Богообщения, не считали нужным такое понятие вводить, то не будет ли означать такая попытка с нашей стороны – претензию знать о Боге больше, чем св. Отцы? Отвергая возможное обвинение в такой претензии, мы, в то же время, не можем разделить выводы Лосского, намекающего на необходимость для догматического творчества новых исключительных откровений.
Знание о Боге, которое имели св. Отцы, которое хранится в церковном предании во всем его объеме и сообщается единичной душе при всяком подлинном ее соприкосновении с Богом, отнюдь не исчерпывается догматическими определениями учением св. Отцов. Знание это носит целостный, сверхразумный характер и, вообще говоря, догматическое творчество этого знания углубить не может. Апостолы, не знавшие термина «единосущный», в опыте знали Св. Троицу не менее глубоко, чем св. Отцы, построившие на понятии единосущия все тринитарное богословие.
Положительное значение догматического творчества стоит не в том, чтобы оправдать веру перед разумом или возвысить веру до уровня разума; напротив, значение догмата в том, чтобы оправдать разум перед верой, возвысить разум до уровня религиозного опыта. К этой встрече с религиозным опытом разум приходит не пустым, но с определенным, исторически сформировавшимся содержанием, именно это содержание подлежит духовному очищению и преображению.
В святоотеческую эпоху таким содержанием разума была по преимуществу античная философия в ее высших достижениях. В результате многовекового усилия разум, возведенный на ступень православного догмата, доказал свою состоятельность перед лицом живого религиозного опыта; высшее содержание разума, почерпнутое из погружения в мировые реальности, оказалось «сообразным» Богу сама возможность существования догматов стала одним из самых убедительных доказательств того, что мир, включая человеческий разум, сотворен по образу и подобию Бога.
Современный христианин, переживая опыт Богообщения, встречается с Тем же Богом, Которого знали апостолы и святые, и в глубине своего сердца познает Его в той целостности, которая почти недоступна восприятию нашего раздробленного грехом естества. То содержание души, которое встречается теперь с Богом, уже существенно иное, ибо поток истории унес человека далеко от тех рубежей, на которых он находился полтора тысячелетия тому назад. Но по-прежнему, как и во времена Отцов, содержание это подлежит испытанию и преображению благодатной силой Богообщения.
Нет, таким образом, ничего удивительного в том, что не только новые жизненные реальности, но и выражающие их новые понятия должны пройти проверку и очищение религиозным опытом, и если эта встреча двух опытов удастся, то в результате наша связь с бытием углубится или даже обретет новое измерение.
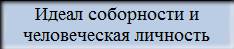
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
