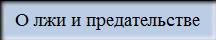Барон Врангель (в центре) в замке Зеон в кругу друзей.
Стоят слева направо: второй слева - Николай Михайлович Котляревский,
секретарь генерала Врангеля; Наталья Николаевна Ильина,
Сергей Александрович Соколов-Кречетов, Иван Александрович Ильин.
http://www.hrono.info/biograf/bio_i/ilin1ia.php
Стоят слева направо: второй слева - Николай Михайлович Котляревский,
секретарь генерала Врангеля; Наталья Николаевна Ильина,
Сергей Александрович Соколов-Кречетов, Иван Александрович Ильин.
http://www.hrono.info/biograf/bio_i/ilin1ia.php
О лжи и предательстве
Гл. 18. О религиозной цельности
Религиозный человек не может мириться с тем, что он верит во что-то, отвергаемое его разумом; или с тем, что разум его утверждает нечто такое, против чего восстает его вера. Если он примирится с этим, тогда он будет слабо веровать и робко мыслить; вера его будет под цензурой законно восстающего разума, а разум его будет под анафемой законно отвергающей его веры; сам же он будет вековечным изменником и предателем: то изменником своей веры, то предателем своего разума. И потому он будет – то осуждать себя за свою веру, то подавлять в себе свои разумные воззрения. Он не будет доверять ни своему разуму, ни своей вере; и кончит тем, что не будет доверять самому себе и потеряет к себе уважение.
Теория двух "параллельных", – различных или противоположных, – истин, к которой склонялись Шаррон и Монтень, психологически понятна в своем возникновении; это был компромисс, спасавший "разум" от преследования католической церкви и в то же время не порывавший окончательно с церковной догматикой; но в духовном отношении эта теория была наивна и беспомощна. Она предлагала религиозному человеку духовную шизофрению как способ жизни; или же – некий "бухгалтерский" самообман в верованиях и убеждениях. Две истины, – одна религиозная, неприемлемая для разума, а другая разумная, неприемлемая для религиозного опыта и веры, – значит ни одной истины; это означает неисцелимый раскол в духе; двоевластие, с перемирием в гражданской войне духа с самим собой. Эта гражданская война узаконялась как способ жизни: рано или поздно она разразилась бы и привела к окончательному отвержению или веры, или разума, или и веры и разума вместе.
То, чего надо добиваться, есть не просто "примирение" веры и разума или синтез их учений, а тождество веры и разума. Вера должна стать разумной верой, а разум должен стать верующим разумом.
Для этого идея разума должна быть расширена, углублена и окрылена. Разумная мысль совсем не прикована к чувственному опыту как своему якобы единственному источнику: есть еще опыт нечувственный (психология, логика, математика) и сверхчувственный (духовный). Разум прав, когда он требует и ищет достаточных оснований в опыте; он остается разумом и тогда, когда ищет этих оснований в нечувственном и сверхчувственном опыте. И тогда он становится верным и драгоценным орудием веры: вера делается разумной верой, противоположность снимается и раскол в духе предотвращен.
Соответственно с этим вера должна быть прикреплена к идее достаточного основания и к религиозно-предметному опыту. Нельзя относить к вере всякое суеверие, пустоверие, легковерие и все аутистические фантазии на религиозные темы, которыми она психологически и исторически окружена. Нельзя строить веру на страхе, на вожделении, на расчете, на жадности и на других инстинктивных побуждениях души. Нельзя строить веру на изнеможении разума. Нельзя "спасать" богооткровенные истины, которые разум еще не умеет оправдать и принять, посредством отречения от разума: "верую именно потому, что мой разум изнемог" ("credo quia absurdum").
Разум есть высокий и светлый Божий дар, а не соблазн, идущий от грешной и богопротивной "человечины"; и не искушение, исходящее прямо от дьявола. Вера не смеет быть ни слепа, ни легка, ни глупа. Ни слепота, ни легкость, ни глупость не ведут к Богу. И то "безумие" и "юродство", о которых пишет Апостол Павел в первом Послании к Коринфянам (Кор. 1. 18-25), есть безумие и юродство (и "соблазн") только для слепых иудеев и для непросвещенных язычников.1Толковать эту вдохновенную иронию Апостола в буквальном смысле, как отречение христианства от разума – было бы неверно и опасно и противоречило бы всем разумноапологетическим трудам и писаниям как самого Павла, так и всех отцов церкви. Ибо все они утверждали именно за христианским учением высшую зрячесть, глубину и разумность.
1В греческом оригинале сказано не "для Еллинов безумие", а "έθνεσιν δέ μωρίαν", т.е. "племенам же глупость".
Слепая вера будет неизбежно строиться на страхе и уведет в нечистые сферы души. Легкая вера будет прилепляться ко всякому субъективно импонирующему или подкупающему вздору и уведет от Бога.
Глупая вера угасит в себе все критерии удостоверения и очищения. Из всего этого возникнут только гибельные соблазны. А между тем религиозная вера не есть вопрос личного "вкуса" или "произволения" и не есть вопрос второстепенного "приукрашения" жизни вроде комнатного фарфора или цветника в саду; это есть вопрос всей жизни, всей судьбы человека, вопрос земной смерти и, может быть, посмертной гибели. Исключить разум из решения такого вопроса – значило бы поистине лишиться разума.
Только в несчастный час жизни может прийти человеку на ум – доверить всю судьбу своего духа безразумной слепоте, легкомысленному противоразумию или безответственной глупости. И все это – в пределах Христианства, парящее благовестие которого начинается словами "В начале был Разум" (Иоанна I. 1.): "Έν άρχή ήν ό λόγοσ" Нет, вера может и должна иметь достаточное основание, и в обретении его разум служит ей незаменимую службу, – но, конечно, разум, а не просто рассудок, слепой ко всему, кроме чувственного опыта и формальной логики! Это достаточное основание вера должна находить в религиозно-предметном опыте со всей его духовностью, созерцательностью и сердечностью; и разум призван содействовать этому, а не противодействовать. В результате этого разум станет верующим разумом, приобретя всю личную силу и все религиозное достоинство веры; а вера станет разумной верой, приобретя всю убедительность и всю терпимую мудрость разума
<…>
Мыслить Бога, как отвлеченное понятие, есть дело мертвое и бесплодное; оно ничего не может дать кроме релятивистических конструкций и соблазнов. Богомыслие будет только тогда на высоте, если оно будет в то же время боголюбивым созерцанием. Вот почему дедуктивная теология, "построяемая" в отвлеченном порядке на текстах писания, несет с собой мертвящее дыхание и опустошает души и сердца. Мысль о Боге должна родиться из созерцающего сердца; она должна быть несома живой любовью, видящей любимый Предмет; она должна быть любящей мыслью, лучи которой, простираясь к Богу, ищут того духовного, "художественно-религиозного" единения с Ним, которое знакомо великим подвижникам и философам. Мертвая отвлеченность не доходит до Бога, ибо Бог не есть "тождественное себе и внутренне непротиворечивое понятие". И те, которые пытаются истолковать так учения Спинозы и Гегеля, не понимают в них ничего.
Целостный религиозный акт не может и не должен исключать мысль. Но он не может состояться, если мысль не научится созерцать из любви. Это единение мысли, любви и созерцания может сложиться в акты различного строения, в зависимости от того, что именно человеку удается, простое сотрудничество этих способностей с первенством одной из них, или же слияние их, и притом слияние всех трех, или же каких-либо двух из них, и каких именно: слияние мысли и созерцания, или мысли и сердца, или сердца и созерцания, с подчинением оставшейся способности двум слившимся. В зависимости от этого богомыслие примет характер преимущественно философический, или религиозный, или "мистический". <…>
Есть люди с сильной волей – инициативные, как бы "заряженные" жизненной целью и все время "разряжающиеся" поступками, "идущие", "ведущие", упорные до конца; и есть люди со слабой волей, живущие не решениями, а "настроениями", фантазиями и мыслями. Но это волевое начало в человеке есть начало "формальное", т.е. характеризующее только активную энергию его, а не те жизненные содержания, на которые направлена и во имя которых изживается эта энергия. Воля должна почерпать свои цели, слагать "линию" своих решений и совершать выбор своих средств, исходя из иных, более глубоких и содержательных источников жизни, чем она сама: из инстинкта, сердца, воображения и мышления. И вот, когда в человеке слагается единение сердца, инстинктивной духовности и совести, то содержательное направление воли оказывается в значительной степени предрешенным; а если такое сердце соединится и с созерцанием, и с разумом – то направление воли будет предрешено окончательно.
Воля человека желает того, что "любят" его инстинкт и его сердце.
Человек ничего не любящий и слабовольный – рискует привести свою душу в состояние "Буриданова осла", погибающего между двумя жизненными стогами сена. Человек ничего не любящий и одаренный сильной волей – превратит свою жизнь в цепь капризов, беспредметных произволений и своекорыстных жестокостей или же станет рабом чужой воли, подчинив ей свой волевой "мотор". Любовь чисто инстинктивная сделает человека "медиумом" его собственной животности. Но любовь одухотворенного сердца, соединившаяся с духом инстинкта и с совестью, откроет человеку настоящий жизненный путь. <…>
Если же это единство удается человеку, то молитва его поднимается на истинную высоту: молится его сердце, исполненное любви к Богу; молится его созерцание, как интенциональный порыв к Богу; молится его разум, отдавший свои лучшие силы на подготовку этой молитвы; молится его инстинкт, как чистая радость Божиим лучам; молится его воля, возносясь и домогаясь осуществления Совершенства. И сам он становится, хотя бы на миг, "неопалимой купиной", поглощающей Божий огонь и посылающей свой свет в мир. Такая молитва есть живое средоточие всей прошлой, религиозно очищавшейся жизни, и в то же время – живое вступление к предбудущим делам.
И понятно, что от такого религиозного акта жизнь не может не обновиться: и личная, и общественная; и трудовая, и политическая; и нравственная, и умственная; и художественная, и научная. И Церковь обновится; и теология станет иной...
Так, в науке возродится то живое и глубокое чувство тайны, которое вело всех гениальных ученых; чувство благоговейного предстояния Предвечному Создателю и чувство касания к Его премудрости... Ученый опять будет руководиться не любопытством и не честолюбием, а любовью к Совершенству и к своему Предмету. Он поймет ответственность своего служения и его совестную природу; и, руководясь не только наблюдением, но и созерцанием и сердцем, выработает новый акт научного познание.
А в государственности обновится важнейшее, что ее зиждет, именно акт духовного правосознания. Тогда стихнет развязное посягание полуобразованных "умов" и вступят в свои права идеи служения и ответственности. Люди поймут всю несправедливость равенства и всю невозможность произвольно уравнять всех, и именно через это и после этого найдут дорогу к настоящему братству. Все обновится: чувство права, чувство обязанности, чувство запретности; суд и голосование...
Люди поймут, в чем состоит христианская идея собственности и что есть истинная "социальность"...
И так – во всем...
Ибо религиозно-цельному человеку открывается такое, что остается закрытым и недоступным для нецельного.
<…>
Глупая вера угасит в себе все критерии удостоверения и очищения. Из всего этого возникнут только гибельные соблазны. А между тем религиозная вера не есть вопрос личного "вкуса" или "произволения" и не есть вопрос второстепенного "приукрашения" жизни вроде комнатного фарфора или цветника в саду; это есть вопрос всей жизни, всей судьбы человека, вопрос земной смерти и, может быть, посмертной гибели. Исключить разум из решения такого вопроса – значило бы поистине лишиться разума.
Только в несчастный час жизни может прийти человеку на ум – доверить всю судьбу своего духа безразумной слепоте, легкомысленному противоразумию или безответственной глупости. И все это – в пределах Христианства, парящее благовестие которого начинается словами "В начале был Разум" (Иоанна I. 1.): "Έν άρχή ήν ό λόγοσ" Нет, вера может и должна иметь достаточное основание, и в обретении его разум служит ей незаменимую службу, – но, конечно, разум, а не просто рассудок, слепой ко всему, кроме чувственного опыта и формальной логики! Это достаточное основание вера должна находить в религиозно-предметном опыте со всей его духовностью, созерцательностью и сердечностью; и разум призван содействовать этому, а не противодействовать. В результате этого разум станет верующим разумом, приобретя всю личную силу и все религиозное достоинство веры; а вера станет разумной верой, приобретя всю убедительность и всю терпимую мудрость разума
<…>
Мыслить Бога, как отвлеченное понятие, есть дело мертвое и бесплодное; оно ничего не может дать кроме релятивистических конструкций и соблазнов. Богомыслие будет только тогда на высоте, если оно будет в то же время боголюбивым созерцанием. Вот почему дедуктивная теология, "построяемая" в отвлеченном порядке на текстах писания, несет с собой мертвящее дыхание и опустошает души и сердца. Мысль о Боге должна родиться из созерцающего сердца; она должна быть несома живой любовью, видящей любимый Предмет; она должна быть любящей мыслью, лучи которой, простираясь к Богу, ищут того духовного, "художественно-религиозного" единения с Ним, которое знакомо великим подвижникам и философам. Мертвая отвлеченность не доходит до Бога, ибо Бог не есть "тождественное себе и внутренне непротиворечивое понятие". И те, которые пытаются истолковать так учения Спинозы и Гегеля, не понимают в них ничего.
Целостный религиозный акт не может и не должен исключать мысль. Но он не может состояться, если мысль не научится созерцать из любви. Это единение мысли, любви и созерцания может сложиться в акты различного строения, в зависимости от того, что именно человеку удается, простое сотрудничество этих способностей с первенством одной из них, или же слияние их, и притом слияние всех трех, или же каких-либо двух из них, и каких именно: слияние мысли и созерцания, или мысли и сердца, или сердца и созерцания, с подчинением оставшейся способности двум слившимся. В зависимости от этого богомыслие примет характер преимущественно философический, или религиозный, или "мистический". <…>
Есть люди с сильной волей – инициативные, как бы "заряженные" жизненной целью и все время "разряжающиеся" поступками, "идущие", "ведущие", упорные до конца; и есть люди со слабой волей, живущие не решениями, а "настроениями", фантазиями и мыслями. Но это волевое начало в человеке есть начало "формальное", т.е. характеризующее только активную энергию его, а не те жизненные содержания, на которые направлена и во имя которых изживается эта энергия. Воля должна почерпать свои цели, слагать "линию" своих решений и совершать выбор своих средств, исходя из иных, более глубоких и содержательных источников жизни, чем она сама: из инстинкта, сердца, воображения и мышления. И вот, когда в человеке слагается единение сердца, инстинктивной духовности и совести, то содержательное направление воли оказывается в значительной степени предрешенным; а если такое сердце соединится и с созерцанием, и с разумом – то направление воли будет предрешено окончательно.
Воля человека желает того, что "любят" его инстинкт и его сердце.
Человек ничего не любящий и слабовольный – рискует привести свою душу в состояние "Буриданова осла", погибающего между двумя жизненными стогами сена. Человек ничего не любящий и одаренный сильной волей – превратит свою жизнь в цепь капризов, беспредметных произволений и своекорыстных жестокостей или же станет рабом чужой воли, подчинив ей свой волевой "мотор". Любовь чисто инстинктивная сделает человека "медиумом" его собственной животности. Но любовь одухотворенного сердца, соединившаяся с духом инстинкта и с совестью, откроет человеку настоящий жизненный путь. <…>
Если же это единство удается человеку, то молитва его поднимается на истинную высоту: молится его сердце, исполненное любви к Богу; молится его созерцание, как интенциональный порыв к Богу; молится его разум, отдавший свои лучшие силы на подготовку этой молитвы; молится его инстинкт, как чистая радость Божиим лучам; молится его воля, возносясь и домогаясь осуществления Совершенства. И сам он становится, хотя бы на миг, "неопалимой купиной", поглощающей Божий огонь и посылающей свой свет в мир. Такая молитва есть живое средоточие всей прошлой, религиозно очищавшейся жизни, и в то же время – живое вступление к предбудущим делам.
И понятно, что от такого религиозного акта жизнь не может не обновиться: и личная, и общественная; и трудовая, и политическая; и нравственная, и умственная; и художественная, и научная. И Церковь обновится; и теология станет иной...
Так, в науке возродится то живое и глубокое чувство тайны, которое вело всех гениальных ученых; чувство благоговейного предстояния Предвечному Создателю и чувство касания к Его премудрости... Ученый опять будет руководиться не любопытством и не честолюбием, а любовью к Совершенству и к своему Предмету. Он поймет ответственность своего служения и его совестную природу; и, руководясь не только наблюдением, но и созерцанием и сердцем, выработает новый акт научного познание.
А в государственности обновится важнейшее, что ее зиждет, именно акт духовного правосознания. Тогда стихнет развязное посягание полуобразованных "умов" и вступят в свои права идеи служения и ответственности. Люди поймут всю несправедливость равенства и всю невозможность произвольно уравнять всех, и именно через это и после этого найдут дорогу к настоящему братству. Все обновится: чувство права, чувство обязанности, чувство запретности; суд и голосование...
Люди поймут, в чем состоит христианская идея собственности и что есть истинная "социальность"...
И так – во всем...
Ибо религиозно-цельному человеку открывается такое, что остается закрытым и недоступным для нецельного.
<…>
Глава Девятнадцатая
О РЕЛИГИОЗНОЙ ИСКРЕННОСТИ
О РЕЛИГИОЗНОЙ ИСКРЕННОСТИ
Религиозное отношение есть отношение сосредоточенное, интенсивное и духовно-накаленное. Такова, например, молитва: она есть сосредоточенно объединенное горение духа; нет его – значит молитва не состоялась. Естественно, что дух, восходящий на высшую, совершенную ступень религиозности, ищет непрерывности в этом горении и стремится создать себе такую внешнюю и внутреннюю обстановку жизни, которая способствовала бы этому нерассеиваемому вниманию, этой неослабевающей интенсивности и неразвлекаемой поглощенности. Такое непрерывное горение человеку почти не под силу; уже простая длительность и частая повторность его требуют особого аскеза. Однако есть возможность удержать в себе негаснущий, но и не пылающий угль этого горения, оставаясь в обычных условиях жизни, ибо эта духовная интенсивность обладает способностью, раз состоявшись и овладев душой, не исчезать из внутренних пространств, но как бы удаляться в глубину религиозного духа, освобождая его поверхностные слои для других, более обычных содержаний и состояний.
Эти последние не исключаются, не угашаются и даже не осуждаются, но приводятся в связь с духовным "углем", пронизываются его светом, очищаются его теплом и получают от него свой смысл и свое направление.
Для того, чтобы усвоить такое религиозное состояние, человеческая душа должна ввести Огнь Духа в самый центр своей личной жизни, в последнюю глубину своего сердца, в исток своего бытия, так, чтобы этот Огнь зажег духовный огонь инстинкта и чтобы это новое пламя превратилось в центральное обстояние всей личности и ее жизни.
Тогда весь уклад человека приобретает необходимую и драгоценную религиозную центрированность.
Религиозному человеку свойственно переживать все, что есть Божие, все, что идет от Бога и ведет к Богу – самым центром своего духа – не просто как "важное" или "ценное", но как лично-самое-важное и лично-самое-драгоценное, так, что по сравнению с ним все остальное оказывается или менее ценным, или совсем не важным. Произнося эти слова – "единое на потребу", религиозный человек не преувеличивет своего отношения, но вкладывает в него полноту своего чувства ("плерому", от греческого πλήρωμα – полнота). Он обращается к Богу из своей сущей глубины (de profundis), и, восприняв Его Огонь, переживает некоторое определяющее, окончательное событие.
Религиозное восприятие есть действительно духовное событие, не только захватывающее последний, первоначальный исток личной силы, но состаивающееся именно в нем; всякая иная "локализация" его, всякий недостаток этого проникновения делают его экстенсивным и лишают его религиозного смысла. Это проникновение может быть мгновенным и замедленным, "перевертывающим", или "перестраивающим"; но оно должно дойти "до дна" и получить измерение последней личной глубины; оно взывает к окончательному ответу и решению; оно имеет характер решительный и оформляющий. <…>
Духовный характер почерпает свою силу из центрального предметного огня: этот огонь может казаться "страстью", но страсть эта духовная, ее ведет религиозная очевидность. Всякую иную "силу" духовный характер отвергает, как разновидность слабости, – слепой, ожесточающейся и самомнительной. Он ищет и обретает свою силу в духовном очищении, в предании себя Богу, в смирении Ему и в молитве.
Вот откуда у людей с духовным и особенно религиозным характером – эта особенность внутренне владеть собой, блюсти градацию жизненных ценностей и не падать духом. Предметный Центр сообщает душе высший критерий блага и примиряет ее одухотворившийся инстинкт с долгом: естественно и просто открывается человеку, что можно, что должно и чего нельзя; чем стоит жить и чем не стоит жить; чем можно пожертвовать и во имя чего, и чем нельзя пожертвовать ни при каких условиях; от чего можно отказаться, и от чего нельзя отречься, и от чего нельзя не отказаться. Вследствие этого духовный характер носит в самом себе источник закона, и притом именно потому, что последняя глубина его личности таит в себе Божий огонь. И закон этот предстоит ему не в виде отвлеченного, сухого правила, а в виде глубокой и цельной органической потребности духа совершить "то-то" и не делать "того-то". Вот почему к власти призваны именно люди с духовным характером, ибо их личность имеет духовный устой в жизни и в смерти, нравственный "хребет", религиозный "фундамент", крепкий "якорь".
Напротив, человек, лишенный такого центра (сознаваемого или несознаваемого им самим!), – имеет "существование", но не имеет "бытия", он не есть самобытный творческий источник жизни, истории, культуры и государства; он только "медиум" внешних влияний и внутренних страстей.
В этом смысле религиозность есть первооснова человеческой жизни. <…>
Для того, чтобы приобрести настоящую религиозную искренность, человек должен утвердить в себе религиозно-предметный Центр и приобрести цельность акта и объема. Именно жизненное сочетание подлинной центрированности и органической цельности делает душу искренней в высшем смысле этого слова.
Божественное должно захватить последнюю глубину личности и зажечь ее. Дух инстинкта должен принять этот огонь и предаться ему так, чтобы загорелся и самый инстинкт человека, чтобы в глубине души, сердца и воли не осталось "обделенного", "неудовлетворенного", "протестующего" или прямо "бунтующего" двойника. Самое жилище человеческой страсти должно стать "домом Божиим"; и самый огонь ее влечений и порывов должен стать огнем "Купины". Те слои, сферы, "функции" или "комплексы" души, которые не будут захвачены этим огнем и не будут вовлечены в этот космос, останутся отчужденными, самовольными, нерелигиозными. Они всегда будут грозить человеку образованием в нем второй "личности" или "полуличности", т.е. духовной "шизофренией" и "гражданской войной". <…>
Лучи божественного смысла пронизывают всю толщу ее эмпирических содержаний и "огни жизни"1оказываются видоизменениями единого центрального Огня. Постепенно в душе не остается ничего религиозно-пустого, чуждого или мертвого. Это отнюдь не ведет человека к ханжеству, к непрестанному публичному оказательству своего "умиления", "подъема" или тем более своей нарочитой "праведности" или "святости". Напротив, все сие совершается в великой укрытости, в тишине и тайне, в легкой, естественной добровольности, которая делается тем более легкой, чем она цельнее и искреннее; а другие узнают об этом лишь "по плодам", т.е. по решениям, высказываниям и поступкам религиозно-искреннего человека.
Весь этот процесс можно было бы охарактеризовать как религиозную интеграцию души: единение под единой властью Купины. Жизнь религиозного духа есть не хаос и не belum civile, но regnum, и притом Regnum Dei. Это не только "религиозная предметность" духа2но цельность в предметности; и не просто цельность души, но цельность предметного духа. Воспринятый и неугасающий Огонь претворяет в душе все, чего он касается; а лучи его касаются всего. <…>
нигде искренность не имеет такого глубокого, всеопределяющего значения, как в жизни Церкви. Церковь есть великое единение личных огнилищ. Она возможна только там, где эти огнилища, однородные по строению религиозного акта и возженные лучами единого Бога, стоят в искреннем и жизнеопределяющем религиозном общении. Люди, принадлежащие к единой церкви, должны быть сходно центрированы и связаны своими излучениями в единой общецерковной Купине. Ибо церковь есть соборная Купина, слагающаяся в молитвенном, учительном (догматы) и деятельном совместном горении множества личных огней. При таком понимании всякая неискренность, – в вере, в молитве или в деятельности, свидетельствует о непроникновении Божиих искр из церковной Купины в личное огнилище человека и из личной Купины в жизнь и деятельность Церкви. Неискренняя молитва есть несостоявшаяся молитва. Неискренно совершенный обряд есть пустая форма обряда. Священнослужитель, лишенный Купины, есть профессионал пустой обрядности.
Организованный церковью обман есть ложь Богу. Словом, неискренняя церковь лишена Благодати: она мертва; она есть трагическая видимость церкви.
Таково значение и такова сила религиозной искренности: она есть естественное проявление целостной веры и центрированного духа. Она есть проникновение Божьего Огня в человека, господство этого Огня в личной душе.
Можно было бы сказать, что искренность есть прозрачность человеческого духа перед лицом Божиим. Или иначе: она есть верное и цельное выступление центрального огня личности на ее жизненную периферию и вступление его в атмосферу общественного взаимодействия. Это есть сверкание центральной искры в жизненном акте человека, сверкание, свидетельствующее о горении священного огня в глубине личной души. Это есть доступность периферии для духовного центра и духовного центра для периферии. Человек становится художественным явлением своей Купины, своего божественного Центра: в нем осуществляется власть Божьего Огня. Именно этим и объясняется духовная сила искренно-религиозных людей.
Эти последние не исключаются, не угашаются и даже не осуждаются, но приводятся в связь с духовным "углем", пронизываются его светом, очищаются его теплом и получают от него свой смысл и свое направление.
Для того, чтобы усвоить такое религиозное состояние, человеческая душа должна ввести Огнь Духа в самый центр своей личной жизни, в последнюю глубину своего сердца, в исток своего бытия, так, чтобы этот Огнь зажег духовный огонь инстинкта и чтобы это новое пламя превратилось в центральное обстояние всей личности и ее жизни.
Тогда весь уклад человека приобретает необходимую и драгоценную религиозную центрированность.
Религиозному человеку свойственно переживать все, что есть Божие, все, что идет от Бога и ведет к Богу – самым центром своего духа – не просто как "важное" или "ценное", но как лично-самое-важное и лично-самое-драгоценное, так, что по сравнению с ним все остальное оказывается или менее ценным, или совсем не важным. Произнося эти слова – "единое на потребу", религиозный человек не преувеличивет своего отношения, но вкладывает в него полноту своего чувства ("плерому", от греческого πλήρωμα – полнота). Он обращается к Богу из своей сущей глубины (de profundis), и, восприняв Его Огонь, переживает некоторое определяющее, окончательное событие.
Религиозное восприятие есть действительно духовное событие, не только захватывающее последний, первоначальный исток личной силы, но состаивающееся именно в нем; всякая иная "локализация" его, всякий недостаток этого проникновения делают его экстенсивным и лишают его религиозного смысла. Это проникновение может быть мгновенным и замедленным, "перевертывающим", или "перестраивающим"; но оно должно дойти "до дна" и получить измерение последней личной глубины; оно взывает к окончательному ответу и решению; оно имеет характер решительный и оформляющий. <…>
Духовный характер почерпает свою силу из центрального предметного огня: этот огонь может казаться "страстью", но страсть эта духовная, ее ведет религиозная очевидность. Всякую иную "силу" духовный характер отвергает, как разновидность слабости, – слепой, ожесточающейся и самомнительной. Он ищет и обретает свою силу в духовном очищении, в предании себя Богу, в смирении Ему и в молитве.
Вот откуда у людей с духовным и особенно религиозным характером – эта особенность внутренне владеть собой, блюсти градацию жизненных ценностей и не падать духом. Предметный Центр сообщает душе высший критерий блага и примиряет ее одухотворившийся инстинкт с долгом: естественно и просто открывается человеку, что можно, что должно и чего нельзя; чем стоит жить и чем не стоит жить; чем можно пожертвовать и во имя чего, и чем нельзя пожертвовать ни при каких условиях; от чего можно отказаться, и от чего нельзя отречься, и от чего нельзя не отказаться. Вследствие этого духовный характер носит в самом себе источник закона, и притом именно потому, что последняя глубина его личности таит в себе Божий огонь. И закон этот предстоит ему не в виде отвлеченного, сухого правила, а в виде глубокой и цельной органической потребности духа совершить "то-то" и не делать "того-то". Вот почему к власти призваны именно люди с духовным характером, ибо их личность имеет духовный устой в жизни и в смерти, нравственный "хребет", религиозный "фундамент", крепкий "якорь".
Напротив, человек, лишенный такого центра (сознаваемого или несознаваемого им самим!), – имеет "существование", но не имеет "бытия", он не есть самобытный творческий источник жизни, истории, культуры и государства; он только "медиум" внешних влияний и внутренних страстей.
В этом смысле религиозность есть первооснова человеческой жизни. <…>
Для того, чтобы приобрести настоящую религиозную искренность, человек должен утвердить в себе религиозно-предметный Центр и приобрести цельность акта и объема. Именно жизненное сочетание подлинной центрированности и органической цельности делает душу искренней в высшем смысле этого слова.
Божественное должно захватить последнюю глубину личности и зажечь ее. Дух инстинкта должен принять этот огонь и предаться ему так, чтобы загорелся и самый инстинкт человека, чтобы в глубине души, сердца и воли не осталось "обделенного", "неудовлетворенного", "протестующего" или прямо "бунтующего" двойника. Самое жилище человеческой страсти должно стать "домом Божиим"; и самый огонь ее влечений и порывов должен стать огнем "Купины". Те слои, сферы, "функции" или "комплексы" души, которые не будут захвачены этим огнем и не будут вовлечены в этот космос, останутся отчужденными, самовольными, нерелигиозными. Они всегда будут грозить человеку образованием в нем второй "личности" или "полуличности", т.е. духовной "шизофренией" и "гражданской войной". <…>
Лучи божественного смысла пронизывают всю толщу ее эмпирических содержаний и "огни жизни"1оказываются видоизменениями единого центрального Огня. Постепенно в душе не остается ничего религиозно-пустого, чуждого или мертвого. Это отнюдь не ведет человека к ханжеству, к непрестанному публичному оказательству своего "умиления", "подъема" или тем более своей нарочитой "праведности" или "святости". Напротив, все сие совершается в великой укрытости, в тишине и тайне, в легкой, естественной добровольности, которая делается тем более легкой, чем она цельнее и искреннее; а другие узнают об этом лишь "по плодам", т.е. по решениям, высказываниям и поступкам религиозно-искреннего человека.
Весь этот процесс можно было бы охарактеризовать как религиозную интеграцию души: единение под единой властью Купины. Жизнь религиозного духа есть не хаос и не belum civile, но regnum, и притом Regnum Dei. Это не только "религиозная предметность" духа2но цельность в предметности; и не просто цельность души, но цельность предметного духа. Воспринятый и неугасающий Огонь претворяет в душе все, чего он касается; а лучи его касаются всего. <…>
нигде искренность не имеет такого глубокого, всеопределяющего значения, как в жизни Церкви. Церковь есть великое единение личных огнилищ. Она возможна только там, где эти огнилища, однородные по строению религиозного акта и возженные лучами единого Бога, стоят в искреннем и жизнеопределяющем религиозном общении. Люди, принадлежащие к единой церкви, должны быть сходно центрированы и связаны своими излучениями в единой общецерковной Купине. Ибо церковь есть соборная Купина, слагающаяся в молитвенном, учительном (догматы) и деятельном совместном горении множества личных огней. При таком понимании всякая неискренность, – в вере, в молитве или в деятельности, свидетельствует о непроникновении Божиих искр из церковной Купины в личное огнилище человека и из личной Купины в жизнь и деятельность Церкви. Неискренняя молитва есть несостоявшаяся молитва. Неискренно совершенный обряд есть пустая форма обряда. Священнослужитель, лишенный Купины, есть профессионал пустой обрядности.
Организованный церковью обман есть ложь Богу. Словом, неискренняя церковь лишена Благодати: она мертва; она есть трагическая видимость церкви.
Таково значение и такова сила религиозной искренности: она есть естественное проявление целостной веры и центрированного духа. Она есть проникновение Божьего Огня в человека, господство этого Огня в личной душе.
Можно было бы сказать, что искренность есть прозрачность человеческого духа перед лицом Божиим. Или иначе: она есть верное и цельное выступление центрального огня личности на ее жизненную периферию и вступление его в атмосферу общественного взаимодействия. Это есть сверкание центральной искры в жизненном акте человека, сверкание, свидетельствующее о горении священного огня в глубине личной души. Это есть доступность периферии для духовного центра и духовного центра для периферии. Человек становится художественным явлением своей Купины, своего божественного Центра: в нем осуществляется власть Божьего Огня. Именно этим и объясняется духовная сила искренно-религиозных людей.
Глава Двадцатая
О ЛЖИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ
О ЛЖИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ
Каждый человек, сам по себе нецельный, сам для себя неясный, от себя спрятанный и внутренне раздвоенный, не видя своей "обратной стороны", но смутно ощущая ее в себе и не умея овладеть ею, обманывается сам в себе, и верит этому самообману, и все же не совсем верит ему, и начинает плохо верить себе в том, что касается его самого. От этого увеличивается внутренняя неясность и раздвоенность. Утрачивается определенность, твердость и цельность: нет ни неизменного "да", ни окончательного "нет". Душевные силы живут в разброде и личность теряет свое единство: чувства обгоняют волю и мысль и вовлекают их в иллюзии и соблазны; мысль отрывается от сердца и воли и начинает "условно" "комбинировать" и "конструировать" в безответственной пустоте; воображение прельщается беспочвенными химерами и вовлекает в обман – и сердце, и волю, и мысль. Все становится в душе неподлинным, призрачным, краткосрочным и условным – и в этом тумане не видно ни "Божией искры", ни человеческой искренности.
<…>
Эта атмосфера, где все призрачно и полуфальшиво, где все кажется притворным отражением обманувшего притворства, скрашивается и сдерживается всеобщим, глухим полупризнанием, что верность все-таки лучше предательства и что правда все-таки выше лжи; что запутавшийся лжец жалок, смешон и глуп. Есть мера лжи; перешагнуть ее, – даже в этой атмосфере, – значит обнаружить свою несостоятельность.
Однако возможен цинизм, презирающий и эту меру, и эту несостоятельность; и, кажется, этот цинизм никогда еще не обнаруживался с такой безобразной откровенностью, как в нашу эпоху. Он проистекает из современного "идиотического" безбожия и из такой же законченной аморальности. Бравируя самые основы духовного бытия, он не стыдится лжи и не скрывает своего бесстыдства; он лжет открыто, обдуманно, вызывающе, словами и делами, не называя своего лганья по имени только в самый момент лжи, и то лишь из практических соображений, ради удачного обмана. Правда в глазах этих людей не имеет никаких духовных преимуществ; опасность разоблачения для них не опасна и скандальная несостоятельность для них нескандальна; а в конце концов они рассчитывают прикрыть все угрозой, страхом и насилием. Они возводят лицемерие в систему и тем доводят ложь до последней, погибельной зрелости, обнажая ее истинную сущность. Они делают ложь как бы "искреннею", т.е., в сущности говоря, откровенно-циничной и тем компрометируют и губят ее, обнаруживая ее духоразрушительную, безбожную, сатанинскую природу.
Замечательно, что именно обывательское полупредательство и повседневная полуправда создают ту атмосферу, в которой утверждается и торжествует циничная ложь; "полуложь" является как бы тем "навозом", на котором растет и вырастает ядовитое растение дьявола. И нет сомнения, что наша эпоха доказала это с полной очевидностью. <…>
Люди, совсем нецентрированные и нецельные, бывают неискренни потому, что у них нет Купины, искры которой могли бы и должны бы сверкать в их жизненных проявлениях: они лишены божественного огня, и духовная предметность обнаруживается в их словах и делах лишь случайно. Их "верность" и "правдивость" – поверхностны и не имеют духовно-религиозного смысла. Они могут "обмолвиться правдой" и "оступиться" верным деянием; но и только.
Строго говоря, этим людям присуще не духовное бытие, а лишь душевно-телесное существование; и судить их духовным судом трудно. Прежде, чем взыскивать с них и говорить про них, что они "лжецы" и "предатели", надо было бы помочь им найти свой духовный центр; прежде, чем вменять им "кривизну" их души, надо было бы помочь им вступить в бытие. Чтобы солгать, необходимо иметь хоть какое-нибудь отношение к сущей правде; чтобы предать, необходимо связать себя хоть какой-нибудь духовной связью и не соблюсти ее. А эти люди, в сущности говоря, не доросли духовно – ни до лжи, ни до предательства.
Совсем иначе выражается неискренность у людей, сколько-нибудь центрированных. У них она может принять форму предательства и лжи, Рассмотрим сначала проблему предательства.
Предательство состоит в том, что человек внутренне (в своих сокровенных помыслах, чувствах, решениях) или внешне (на словах или на деле) изменяет своему духовному центру, не имея для того предметных оснований. <…>
Предательство понимают обычно как общественное явление как неверность одного человека другому или другим. Однако это обычное понимание поверхностно и недостаточно широко, ибо оно упускает религиозную природу обсуждаемого явления. Предательство может состояться и без того, чтобы было обмануто чужое доверие, или чужое, вызванное мной ожидание. И обратно: может быть так, что чужие, вызванные мной ожидания (или надежды, расчеты) совершенно не оправдаются, и при том именно из-за моего образа действий, а налицо будет не предательство, а лишь его общественная видимость. Одни будут ставить вопрос: "не предал ли он нас?" Другие будут категорически утверждать: "это сущее предательство!" А на самом деле "предательство" будет мнимым, кажущимся, ибо оно будет обосновано и "покрыто" такими душевными процессами, которые будут далеки от всякого предательства.
Человек совершает действительное предательство только тогда, когда он предает Бога, сам в себе, один "на один" когда он без всяких религиозных оснований, "беспредметно" или "противопредметно" изменяет своему Центру, своей священной Купине. Настоящее предательство есть акт внутренний, измеряемый мерилами духовной веры и духовной верности; и именно в этом глубоком, одиноком самопредательстве, которое есть в сущности малодушное отречение от своей святыни, и скрываются сущность, грех и падение общественного предательства.
Ясно, что к предательству, строго говоря, способен лишь тот, кто совершил духовное центрирование и лишь постольку, поскольку он его осуществил, кто видением узнал, любовью принял и верой исповедал пред Богом и перед самим собою главную святыню своей жизни или, по крайней мере, своими словами и делами дал другим основание считать его избравшим свою святыню и укоренившимся в ней. Человеку, живущему вне духовной свободы (в гетерономии), не имеющему самостоятельного отношения к добру и злу, к Богу и противобожественным силам мира, лишенному предметного видения, искренней любви и веры, – собственно говоря, нечего предавать. Он – ковыль колеблющийся; или – лист, носимый ветром. Он – пустая дудка, из которой каждый новый владелец будет извлекать угодные ему звуки. И, может быть, только тогда, когда он поймет свою душевную пустоту и свою духовную несостоятельность, т.е., что он доселе ничего не видел, ничего не любил и ни во что не верил, – он почувствует в глубине души свое унижение: унижение не столько от предательства, сколько от того, что он еще не созрел до измерения духом, верностью и предательством...
Чтобы предать святыню – надо ее "иметь". А человек, к сожалению, далеко не всегда знает, "имеет" он ее или нет. Люди нередко принимают еле живую традицию за свою личную "веру", и в критический момент разочаровываются; они принимают простую привычку за духовное убеждение и в смертный час, требующий строгой проверки и окончательного решения, приходят к выводу, что их мнимые "убеждения" не имели ни духовных корней, ни сердечного "наполнения" (плеромы). Такому человеку нетрудно отречься от того, к чему он, в сущности говоря, никогда и не "прирекался". Он не знал о себе настоящей духовно-религиозной правды и узнает ее теперь впервые: а именно, что он не был предан ничему и что потому он "предает" без "предательства". <…>
Человек, имеющий действительно единый и единственный религиозный центр, живет и поступает, имея перед собой не много разных "возможностей", но единственную необходимость: он не может иначе действовать; и не хочет иначе; и не может иначе хотеть: и не хотел бы иначе мочь; и знает, что он делает "должное", но не потому, что оно – "должное" (как того требовал Иммануил Кант), а потому, что оно Божие, лучшее и любимое. Эта необходимость исходит из его религиозной Купины и возводит его верность к Богу. По-видимому, это и имел в виду Мартин Лютер, когда сказал: "So stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, amen".
Напротив, человек со слабым и распадающимся центром всегда имеет перед собой множество различных "возможностей". Некоторые из них уже связаны так или иначе с имеющимися в нем "полуцентрами", а другие могут еще "создать" себе такие "полуцентры" для данной жизненной ситуации – ибо эти эфемерные центры выдумываются без труда, создаются воображением и остаются всегда беспочвенными. Такой человек всегда может – и "так", и "иначе"; он всегда способен настроить себя по-новому, в зависимости от житейских соображений и польз; а иногда эти "настроенности" приходят сами собой и увлекают его. Так, обстоятельства и события жизни бросают его, как пустую лодку, а он нередко делает вид, будто он правит этой ладьей и будто он "влияет" рулем на волны...
Самоопределение такого человека, – если здесь вообще позволительно говорить о "самоопределении", – всегда условно и неверно; его волеизъявление – духовно несостоятельно и, в сущности, не связывает его; его решения – отменимы и изменимы; его "честное слово" нечестно. Пытаясь оправдать эту нечестность, он может заявить, что он "хозяин своего слова, захочет – даст, захочет – назад возьмет"; или еще, что "честность – понятие относительное"; или, что "совесть разрешила ему этот компромисс" и т.д. Такой человек страдает духовной и религиозной беспочвенностью, которая отнимает у него "дар верности". Еще не "предав", только "высказавшись", он уже предал свою позицию, ибо он не вложился в нее сам и не закрепил ее лучом своего Центра. Он лишен личностной силы, духовного бытия, религиозных корней. И потому он является как бы воплощенным противоречием: плюралист, всегда распадающийся на множество внутренних "течений", и релятивист, для которого все условно и относительно, ничему не преданный безусловно и не имеющий единого первоисточника жизни, – он только кажется людям единым существом с духовно-волевым, самоуправляющимся центром. И это противоречие является сразу – сущей трагедией и великим соблазном.
На таких людей нельзя полагаться. На них нельзя построить никакой жизнеспособной организации: ни семьи, ни корпорации, ни церкви, ни государства. Эпоха, когда такие люди преобладают, становится эпохой разложения и крушения. Церковь, не способная воспитывать религиозно-центрированные характеры, губит сама себя. Государство, насаждающее насилие и страх и размножающее людей такого уклада, не достойно своего имени. Понятно, какие тягостные духовные последствия имеет такой порядок, при котором массы народа вынуждаются угрозами, страхом, голодом и казнями – вступать на путь религиозной симуляции или религиозного предательства. Светская власть, веками применяющая правило "cujus regio, ejus religio"; церковная власть, земным огнем выжигающая из душ Божий огонь и его искренность – во славу гетерономной церковной догмы; безбожная власть, стремящаяся подавить или искоренить в душах всякий религиозный опыт извращают и попирают самую природу духа, т.е. свободу цельного и искреннего предметоприятия; они нарушают и разрушают самое главное – здоровый религиозный ритм и строй человеческой души. Этим они готовят себе самим вырождение и гибель.
Все это можно свести к основной формуле: подлинная религиозность исключает духовное предательство. <…>
Ложь разрушает не только личный строй духа, но и общение людей. Это объясняется тем, что она прерывает искренний ток между личными огнилищами. Искры не вылетают из личной купины и не долетают в другую; то, что исходит не искренно, не предметно и не чисто. От этого гаснет взаимное доверие, а затем – и взаимное уважение. Души мутятся. Мутится и вырождается и вся символика общения: слова утрачивают свой прямой и честный смысл; дела становятся двусмысленны; люди смотрят друг другу в глаза и не верят друг другу; и, отвернувшись друг от друга, ждут обмана и предательства. Колеблется все взаимное восприятие людей, общение становится настороженным, лукавым, порочным – и мнимым. Если общение строится на лжи, то в истинном и глубоком значении – его вовсе нет: децентрированные, лишенные искренности симулянты, играющие ложью, – каждый про себя и каждый для другого – не могут создать ни духовного общения, ни единения, ни дружбы, ни семьи, ни корпорации, ни университета, ни парламента, ни государства, ни тем более – церкви.
Понятно, наконец, и то, какие тягостные последствия для духовной и политической жизни народа имеет такой порядок, при котором государственная, а может быть, и церковная власть вступают на путь организованной лжи и обмана. Каждая из этих властей, при всем глубоком различии между ними, является в своей области как бы "общественной Гестией", хранящей и поддерживающей предметный огонь жизни – в церкви огонь откровения и веры, в государстве огонь чести, правосознания и патриотизма. И вот, когда из такого очага, с которым каждый из принадлежащих людей призван поддерживать живую связь доверия, уважения и укрепления, вместо драгоценных искр и оздоровляющих лучей, исходят волны всезастилающей фальши и всеотравляющей лжи, тогда в жизни общественного организма начинается глубокий кризис, ибо это означает, что в центре водворились порочность, слабость, трусость и предательство. Центр вырождается и отмирает; близится образование новых полуцентров и распадение общественного единства. Единый, всем общий и зиждущий пункт, присутствующий своими лучами во всей периферии, неизбежно вносит повсеместно свою порочность, смуту и помрачение, поток подозрительности и недоверия, смешение добра и зла, разочарование, озлобление и, наконец, деморализованное отчаяние. Дым лжи выедает духовные глаза и отравляет в душах предметное дыхание. И это будет продолжаться до тех пор, пока не очистится и не восстановится социальная Гестия.
Таков религиозный смысл лжи; такова ее духовная опасность.
Ложь противорелигиозна, ибо религия не терпит ни мнимых актов, ни мнимой молитвы, ни пролганных содержаний, ни неискреннего общения; именно поэтому она требует очищения духа не только от пошлости, но и от неискренности. Ибо пошлость и неискренность, наряду с сердечной мертвостью, суть основные источники греха.
<…>
Эта атмосфера, где все призрачно и полуфальшиво, где все кажется притворным отражением обманувшего притворства, скрашивается и сдерживается всеобщим, глухим полупризнанием, что верность все-таки лучше предательства и что правда все-таки выше лжи; что запутавшийся лжец жалок, смешон и глуп. Есть мера лжи; перешагнуть ее, – даже в этой атмосфере, – значит обнаружить свою несостоятельность.
Однако возможен цинизм, презирающий и эту меру, и эту несостоятельность; и, кажется, этот цинизм никогда еще не обнаруживался с такой безобразной откровенностью, как в нашу эпоху. Он проистекает из современного "идиотического" безбожия и из такой же законченной аморальности. Бравируя самые основы духовного бытия, он не стыдится лжи и не скрывает своего бесстыдства; он лжет открыто, обдуманно, вызывающе, словами и делами, не называя своего лганья по имени только в самый момент лжи, и то лишь из практических соображений, ради удачного обмана. Правда в глазах этих людей не имеет никаких духовных преимуществ; опасность разоблачения для них не опасна и скандальная несостоятельность для них нескандальна; а в конце концов они рассчитывают прикрыть все угрозой, страхом и насилием. Они возводят лицемерие в систему и тем доводят ложь до последней, погибельной зрелости, обнажая ее истинную сущность. Они делают ложь как бы "искреннею", т.е., в сущности говоря, откровенно-циничной и тем компрометируют и губят ее, обнаруживая ее духоразрушительную, безбожную, сатанинскую природу.
Замечательно, что именно обывательское полупредательство и повседневная полуправда создают ту атмосферу, в которой утверждается и торжествует циничная ложь; "полуложь" является как бы тем "навозом", на котором растет и вырастает ядовитое растение дьявола. И нет сомнения, что наша эпоха доказала это с полной очевидностью. <…>
Люди, совсем нецентрированные и нецельные, бывают неискренни потому, что у них нет Купины, искры которой могли бы и должны бы сверкать в их жизненных проявлениях: они лишены божественного огня, и духовная предметность обнаруживается в их словах и делах лишь случайно. Их "верность" и "правдивость" – поверхностны и не имеют духовно-религиозного смысла. Они могут "обмолвиться правдой" и "оступиться" верным деянием; но и только.
Строго говоря, этим людям присуще не духовное бытие, а лишь душевно-телесное существование; и судить их духовным судом трудно. Прежде, чем взыскивать с них и говорить про них, что они "лжецы" и "предатели", надо было бы помочь им найти свой духовный центр; прежде, чем вменять им "кривизну" их души, надо было бы помочь им вступить в бытие. Чтобы солгать, необходимо иметь хоть какое-нибудь отношение к сущей правде; чтобы предать, необходимо связать себя хоть какой-нибудь духовной связью и не соблюсти ее. А эти люди, в сущности говоря, не доросли духовно – ни до лжи, ни до предательства.
Совсем иначе выражается неискренность у людей, сколько-нибудь центрированных. У них она может принять форму предательства и лжи, Рассмотрим сначала проблему предательства.
Предательство состоит в том, что человек внутренне (в своих сокровенных помыслах, чувствах, решениях) или внешне (на словах или на деле) изменяет своему духовному центру, не имея для того предметных оснований. <…>
Предательство понимают обычно как общественное явление как неверность одного человека другому или другим. Однако это обычное понимание поверхностно и недостаточно широко, ибо оно упускает религиозную природу обсуждаемого явления. Предательство может состояться и без того, чтобы было обмануто чужое доверие, или чужое, вызванное мной ожидание. И обратно: может быть так, что чужие, вызванные мной ожидания (или надежды, расчеты) совершенно не оправдаются, и при том именно из-за моего образа действий, а налицо будет не предательство, а лишь его общественная видимость. Одни будут ставить вопрос: "не предал ли он нас?" Другие будут категорически утверждать: "это сущее предательство!" А на самом деле "предательство" будет мнимым, кажущимся, ибо оно будет обосновано и "покрыто" такими душевными процессами, которые будут далеки от всякого предательства.
Человек совершает действительное предательство только тогда, когда он предает Бога, сам в себе, один "на один" когда он без всяких религиозных оснований, "беспредметно" или "противопредметно" изменяет своему Центру, своей священной Купине. Настоящее предательство есть акт внутренний, измеряемый мерилами духовной веры и духовной верности; и именно в этом глубоком, одиноком самопредательстве, которое есть в сущности малодушное отречение от своей святыни, и скрываются сущность, грех и падение общественного предательства.
Ясно, что к предательству, строго говоря, способен лишь тот, кто совершил духовное центрирование и лишь постольку, поскольку он его осуществил, кто видением узнал, любовью принял и верой исповедал пред Богом и перед самим собою главную святыню своей жизни или, по крайней мере, своими словами и делами дал другим основание считать его избравшим свою святыню и укоренившимся в ней. Человеку, живущему вне духовной свободы (в гетерономии), не имеющему самостоятельного отношения к добру и злу, к Богу и противобожественным силам мира, лишенному предметного видения, искренней любви и веры, – собственно говоря, нечего предавать. Он – ковыль колеблющийся; или – лист, носимый ветром. Он – пустая дудка, из которой каждый новый владелец будет извлекать угодные ему звуки. И, может быть, только тогда, когда он поймет свою душевную пустоту и свою духовную несостоятельность, т.е., что он доселе ничего не видел, ничего не любил и ни во что не верил, – он почувствует в глубине души свое унижение: унижение не столько от предательства, сколько от того, что он еще не созрел до измерения духом, верностью и предательством...
Чтобы предать святыню – надо ее "иметь". А человек, к сожалению, далеко не всегда знает, "имеет" он ее или нет. Люди нередко принимают еле живую традицию за свою личную "веру", и в критический момент разочаровываются; они принимают простую привычку за духовное убеждение и в смертный час, требующий строгой проверки и окончательного решения, приходят к выводу, что их мнимые "убеждения" не имели ни духовных корней, ни сердечного "наполнения" (плеромы). Такому человеку нетрудно отречься от того, к чему он, в сущности говоря, никогда и не "прирекался". Он не знал о себе настоящей духовно-религиозной правды и узнает ее теперь впервые: а именно, что он не был предан ничему и что потому он "предает" без "предательства". <…>
Человек, имеющий действительно единый и единственный религиозный центр, живет и поступает, имея перед собой не много разных "возможностей", но единственную необходимость: он не может иначе действовать; и не хочет иначе; и не может иначе хотеть: и не хотел бы иначе мочь; и знает, что он делает "должное", но не потому, что оно – "должное" (как того требовал Иммануил Кант), а потому, что оно Божие, лучшее и любимое. Эта необходимость исходит из его религиозной Купины и возводит его верность к Богу. По-видимому, это и имел в виду Мартин Лютер, когда сказал: "So stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, amen".
Напротив, человек со слабым и распадающимся центром всегда имеет перед собой множество различных "возможностей". Некоторые из них уже связаны так или иначе с имеющимися в нем "полуцентрами", а другие могут еще "создать" себе такие "полуцентры" для данной жизненной ситуации – ибо эти эфемерные центры выдумываются без труда, создаются воображением и остаются всегда беспочвенными. Такой человек всегда может – и "так", и "иначе"; он всегда способен настроить себя по-новому, в зависимости от житейских соображений и польз; а иногда эти "настроенности" приходят сами собой и увлекают его. Так, обстоятельства и события жизни бросают его, как пустую лодку, а он нередко делает вид, будто он правит этой ладьей и будто он "влияет" рулем на волны...
Самоопределение такого человека, – если здесь вообще позволительно говорить о "самоопределении", – всегда условно и неверно; его волеизъявление – духовно несостоятельно и, в сущности, не связывает его; его решения – отменимы и изменимы; его "честное слово" нечестно. Пытаясь оправдать эту нечестность, он может заявить, что он "хозяин своего слова, захочет – даст, захочет – назад возьмет"; или еще, что "честность – понятие относительное"; или, что "совесть разрешила ему этот компромисс" и т.д. Такой человек страдает духовной и религиозной беспочвенностью, которая отнимает у него "дар верности". Еще не "предав", только "высказавшись", он уже предал свою позицию, ибо он не вложился в нее сам и не закрепил ее лучом своего Центра. Он лишен личностной силы, духовного бытия, религиозных корней. И потому он является как бы воплощенным противоречием: плюралист, всегда распадающийся на множество внутренних "течений", и релятивист, для которого все условно и относительно, ничему не преданный безусловно и не имеющий единого первоисточника жизни, – он только кажется людям единым существом с духовно-волевым, самоуправляющимся центром. И это противоречие является сразу – сущей трагедией и великим соблазном.
На таких людей нельзя полагаться. На них нельзя построить никакой жизнеспособной организации: ни семьи, ни корпорации, ни церкви, ни государства. Эпоха, когда такие люди преобладают, становится эпохой разложения и крушения. Церковь, не способная воспитывать религиозно-центрированные характеры, губит сама себя. Государство, насаждающее насилие и страх и размножающее людей такого уклада, не достойно своего имени. Понятно, какие тягостные духовные последствия имеет такой порядок, при котором массы народа вынуждаются угрозами, страхом, голодом и казнями – вступать на путь религиозной симуляции или религиозного предательства. Светская власть, веками применяющая правило "cujus regio, ejus religio"; церковная власть, земным огнем выжигающая из душ Божий огонь и его искренность – во славу гетерономной церковной догмы; безбожная власть, стремящаяся подавить или искоренить в душах всякий религиозный опыт извращают и попирают самую природу духа, т.е. свободу цельного и искреннего предметоприятия; они нарушают и разрушают самое главное – здоровый религиозный ритм и строй человеческой души. Этим они готовят себе самим вырождение и гибель.
Все это можно свести к основной формуле: подлинная религиозность исключает духовное предательство. <…>
Ложь разрушает не только личный строй духа, но и общение людей. Это объясняется тем, что она прерывает искренний ток между личными огнилищами. Искры не вылетают из личной купины и не долетают в другую; то, что исходит не искренно, не предметно и не чисто. От этого гаснет взаимное доверие, а затем – и взаимное уважение. Души мутятся. Мутится и вырождается и вся символика общения: слова утрачивают свой прямой и честный смысл; дела становятся двусмысленны; люди смотрят друг другу в глаза и не верят друг другу; и, отвернувшись друг от друга, ждут обмана и предательства. Колеблется все взаимное восприятие людей, общение становится настороженным, лукавым, порочным – и мнимым. Если общение строится на лжи, то в истинном и глубоком значении – его вовсе нет: децентрированные, лишенные искренности симулянты, играющие ложью, – каждый про себя и каждый для другого – не могут создать ни духовного общения, ни единения, ни дружбы, ни семьи, ни корпорации, ни университета, ни парламента, ни государства, ни тем более – церкви.
Понятно, наконец, и то, какие тягостные последствия для духовной и политической жизни народа имеет такой порядок, при котором государственная, а может быть, и церковная власть вступают на путь организованной лжи и обмана. Каждая из этих властей, при всем глубоком различии между ними, является в своей области как бы "общественной Гестией", хранящей и поддерживающей предметный огонь жизни – в церкви огонь откровения и веры, в государстве огонь чести, правосознания и патриотизма. И вот, когда из такого очага, с которым каждый из принадлежащих людей призван поддерживать живую связь доверия, уважения и укрепления, вместо драгоценных искр и оздоровляющих лучей, исходят волны всезастилающей фальши и всеотравляющей лжи, тогда в жизни общественного организма начинается глубокий кризис, ибо это означает, что в центре водворились порочность, слабость, трусость и предательство. Центр вырождается и отмирает; близится образование новых полуцентров и распадение общественного единства. Единый, всем общий и зиждущий пункт, присутствующий своими лучами во всей периферии, неизбежно вносит повсеместно свою порочность, смуту и помрачение, поток подозрительности и недоверия, смешение добра и зла, разочарование, озлобление и, наконец, деморализованное отчаяние. Дым лжи выедает духовные глаза и отравляет в душах предметное дыхание. И это будет продолжаться до тех пор, пока не очистится и не восстановится социальная Гестия.
Таков религиозный смысл лжи; такова ее духовная опасность.
Ложь противорелигиозна, ибо религия не терпит ни мнимых актов, ни мнимой молитвы, ни пролганных содержаний, ни неискреннего общения; именно поэтому она требует очищения духа не только от пошлости, но и от неискренности. Ибо пошлость и неискренность, наряду с сердечной мертвостью, суть основные источники греха.
Глава Двадцать Первая
О ГРЕХЕ И СТРАДАНИИ
О ГРЕХЕ И СТРАДАНИИ
Слова Христа: "будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный" (Мтф. 5. 48) становятся для него живым несмолкающим зовом, вопреки всем трезвым и "умным" соображениям о том, что "совершенных людей не бывает" и что "совершенство вообще человеку недоступно". Это желание совершенства совсем не есть проявление самомнения или гордыни, ибо самомнение сказало бы: "это мне легко доступно", а гордыня произнесла бы: "это мной уже достигнуто". Заповедь совершенства воспринимается не теми слоями души, где живет самомнение и где празднует гордость, но глубоким духовным огнилищем и, преобразуясь, там в живую, христианскую совесть, вступает в личную жизнь в качестве живого несмолкающего призыва.
Совесть1совсем не есть отвлеченный "принцип долга", навязываемый воле сознанием; но она не есть и сила суда или укора, подъемлющаяся из бессознательного после дурного поступка и не имеющая "разумного" оправдания. Совесть есть голос целостной духовности человека, в которой инстинкт принял закон Божий, как свой собственный, а дух приобрел силу инстинктивного влечения. Совесть есть сразу инстинктивная потребность в нравственном совершенстве, и предметно-обоснованная воля к нему, а потому творческое искание его в каждом данном жизненном положении. Иными словами – совесть есть целостное пребывание человека в луче Божьем.
Совесть1совсем не есть отвлеченный "принцип долга", навязываемый воле сознанием; но она не есть и сила суда или укора, подъемлющаяся из бессознательного после дурного поступка и не имеющая "разумного" оправдания. Совесть есть голос целостной духовности человека, в которой инстинкт принял закон Божий, как свой собственный, а дух приобрел силу инстинктивного влечения. Совесть есть сразу инстинктивная потребность в нравственном совершенстве, и предметно-обоснованная воля к нему, а потому творческое искание его в каждом данном жизненном положении. Иными словами – совесть есть целостное пребывание человека в луче Божьем.
1См. главу о совести в моей книге "Путь духовного обновления" и в книге "Поющее сердце".
Вот почему человеку, вступившему в процесс религиозного центрирования и очищения, естественно и неизбежно искать во всяком жизненном положении совершенного или, по крайней мере, наилучше возможного исхода. Он желает не выходить из Божьего луча, воспринимаемого им в состоянии молитвенного созерцания, но пребывать в нем, жить им, творить из него; и при этом не только в нравственном измерении добра, доброты и любви, но и во всех других духовных измерениях: красоты и художества, гражданского долга и правосознания, исследования и научного познания, созерцания жизненного процесса и приобщения к нему (соучастия в природе), труда и хозяйственного творчества. Выражая это во всей простоте, можно сказать: религиозный человек ищет во всем – верности Божьему гласу и требует от себя величайшего радения о Божьем деле.
Именно поэтому он остро испытывает всякое свое выхождение или выпадение из Божьего луча, судит себя за него, вменяет его себе и обозначает его словом "грех". Человек грешит не только нравственной черствостью, жадностью, криводушием и безудержной страстностью, но и всяческой пошлостью, беспредметным, бессовестным искусством, гражданской трусостью, взяткой и подкупностью, интригой и кривосудием, в науке – вздорными выдумками и слепотой, безответственным и жестоким обхождением с природой, хозяйственной эксплуатацией других, трудовой ленью, бессовестной растратой добра, и, сверх того, всяким духовным небрежением и религиозной неискренностью. Ибо все это есть попрание совестно-божественного зова; все это есть жизненное выхождение из Божьего "луча". И вот, для такого человека грех не есть некое особливое, затеянное им и осуществленное "злодеяние", которое пребывает в жизни в виде несчастного "острова", окруженного морем "безгрешного благополучия".
Напротив, грех есть для него разливающееся море безлюбовности, пошлости, духовной близорукости или даже слепоты, безответственности, нецельности и неискренности. И если даже эта стихия не сгущается у него в порывы гордости и злобы, в деяния жадности и мести, в дела коварства, интриги, бесчестия, низости, центральной лжи, корыстного предательства и убийства; и если даже эта стихия остается в нем сравнительно вялой, экстенсивной, недеятельной и напоминает собой скорее стоячее, топкое болото – то ее качество от этого нисколько не изменяется. "Качество" греха состоит в том, что человек, которому дана возможность "ходить в свете" и пребывать в огне, не ходит в свете, а пребывает "во мгле и сени смертной"; или, выражаясь словами греческого светолюбца и ясновидца Гераклита Эфесского, "наслаждается грязью" "βορ-βόρω χαίρειν".
При нравственно-религиозном ощущении такой остроты и последовательности неизбежно окажется, что "греха" в человеческой жизни гораздо больше, чем "света" и "огня"; что "свет" и "огонь" даются Сверху, но снизу не берутся; что в человеке есть тяготения, желания и страсти, прилепляющиеся к теме и, может быть, даже наслаждающиеся ей; и что следование по легкому пути вниз через широкие врата свойственно человеческому естеству, ибо путь вверх через врата узкие труден и скорбен. <…>
Всякое самооправдывание скрывает за собой потребность доказать другим людям, а может быть, и себе самому, что чувство вины, таинственно шепчущее в глубине оправдывающейся души, – "неосновательно" и "имеет право" угаснуть. Однако такая потребность не заслуживает удовлетворения. Духовный рост человека требует не самооправдания, а самообвинения. Даже там и тогда, где чужая неправота по отношению ко мне и моя "правота" по отношению к другим очевидны, надо исходить от того, что и я был неправ. Пусть эта моя неправота в данном случае "минимальна", "ничтожна", едва уловима; но религиозно-нравственная мудрость состоит в том, чтобы исследовать с величайшей тщательностью не чужую "очевидную" и "вопиющую" вину, а именно свою, "ничтожную" и "едва уловимую". При этом исследовании человек нередко и быстро убеждается в том, что его собственная вина была совсем уж не так ничтожна и что неуловимость ее была кажущаяся. Стоит ему только вооружиться совестно-нравственным "увеличительным стеклом" и он удостоверится, что нравственная "ткань" человеческой души, подобно материальной ткани тела, гораздо сложнее, утонченнее и деликатнее того, что видится на первый взгляд.
Человек, вооружающийся совестной "лупой" впервые – может быть просто потрясен и подавлен тем зрелищем сложно-утонченной мотивации и динамики каждого отдельного поступка, которое ему предстанет в нем самом. Он вдруг убедится, что он до известной степени желал того и втайне готовил то, чего он явно опасался; что он в известном смысле не хотел того, о чем мечтал и о чем, может быть, даже молился; что какие-то струи его жизни текут в направлении, обратном тому, которое он считает главным и решающим в своей жизни; что в тончайших ответвлениях его души укрываются оттенки зависти, ревности, жадности, зложелательства, честолюбия, тщеславия, ненависти, мстительности – страстей, которые он считал в себе преодоленными и "вычищенными" и которые, может быть, и в самом деле были ослаблены до того, что уже не могли подвигнуть его на самостоятельно- и цельно-мотивированный поступок; но искоренены они не были. И он вынесет, может быть, тягостное впечатление, будто его религиозно-нравственный катарсис "еще не начинался".
Это движение внутрь и вглубь, к сокровенным мотивам, к малозаметным деталям, к скрытым остаткам страстей в самом себе – в высшей степени плодотворно: оно научает человека смирению, зоркому созерцанию греха и настоящему, неутомимому религиозно-нравственному самоочищению; оно приучает его к чувству вины, к скорби о своей плохости, а следовательно, ведет его к одинокому раскаянию и к настоящему церковному покаянию. <…>
Душа человека есть живой организм, не знающий случайностей и изолированных событий. Оскорбитель не вдруг оскорбляет, а гневался ранее и давно копил оскорбляющую силу. Убийца не внезапно убивает: он созревал к своему убийству давно. Всякое падение человека, всякий грех имеет свою историю в его личной жизни и свои корни в его бессознательном. Признать свою вину и покаянно оплакать ее – не значит еще обрести в себе те душевные раны (быть может, раны детства), в которых зародился злой поступок и, тем более не значит исцелить их, обессилить их движущую и распаляющую силу и оздоровить корни своего инстинкта. Настоящее очищение не совершается одним, хотя бы и искренним, порывом к добру и Богу: оно требует всей остальной жизни. Оно требует именно того, что выражается русским простонародным словом: "надо замаливать свои грехи".
Вот почему человек, действительно ищущий религиозного очищения, склонен не гасить в себе чувство вины от совершенного деяния, но возвращаться к ней вновь и вновь, прослеживая нити, ведущие от него вглубь, находя в своей личной истории душевные раны и оздоровляя самые корни своего инстинкта.
Именно так надлежит понимать признание Пушкина ("Воспоминание"):
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Великие аскеты и Добротолюбцы православия знали это и так и поступали. Но и простые русские люди, жаждущие религиозной чистоты, без всякого научения шли этим совестным путем. <…>
Мы "вплетены" или "вращены" в мировой процесс, каждый из нас по-особому, по-иному, но все-таки – все, без исключения. Мы сплетены в великое всемирное единство: оно обстоит ныне в настоящем, уходит корнями в забытое прошлое и ведет в неизвестное, рождающееся и еще не рожденное будущее. Мы держимся друг за друга, мы держим друг друга – и валимся друг на друга, как в детской валятся уставленные в ряд "кирпичики". Нет оторванных или изолированных людей, несмотря на все наше душевно-духовное одиночество.1От черствости одного черствеет весь мир; развратный человек развращает собой всех; всякое преступление взывает на всю вселенную и передается во все концы; лентяй есть мертвая ячейка истории; от пошлого человека тускнеет Божий свет в мировом эфире; всякий духовный предатель предает сразу Бога и все человечество; всякая личная фальшь и злоба лжет на весь мир и гасит любовь во всей вселенной. <…>
Сколько тысяч лет накапливала крестьянская община свою волю к справедливости...
Сколько сот лет английский народ излучал в свой парламент волю к политической свободе... Сколько воли к праву и справедливости понадобилось излучить человечеству для того, чтобы создать суд присяжных...
И все эти явления, и другие бесчисленные, суть как бы "живые сгустки" общенародного или общечеловеческого "духовного излучения" и "эфира". И каждый из нас, кем бы он ни был и на какой бы общественной ступени он ни стоял, имеет возможность восхотеть лучшего, создать совершеннейшее, исправить дурное, поднять среди окружающих его людей волну качественной воли: совместным горением, искренним словом и – больше всего – живым делом, излучающим Божий лучи.
И ничто из этого никогда не проходит "даром" и не исчезает бесследно.
Ибо "мировой эфир" начинается в нас самих; он впитывает в себя взгляд наших глаз; он колеблется от наших слов; он сотрясается от наших дел; он загорается от наших молитв. Мы живем в нем, в его объеме; а он живет в нас, в нашей душевно-духовной ткани.
Надо раз навсегда увидеть это духовным оком, чтобы насадить и укрепить в себе то чувство великой ответственности, которое присуще каждому истинно-религиозному человеку.1Каждый из нас подобен крупинке радия, посылающего свои искорки в мир. И каждый из нас должен научиться контролировать свои искры и облагораживать их сокровенный, внутренний источник, чтобы не быть вредителем и отравителем мира, но очистителем и строителем. Надо принять на себя бремя своего существования и ответственности за свои "искры", "волны" и "излучения". И тот, кто совершит это, тот примет на свои слабые плечи бремя мирового бытия и ответственность за состояние мирового эфира. И изнемогая от этого бремени, начнет искать себе помощь и поддержку; и найдет ее в Боге и в молитве; а потом – в каждом добром, ответственном и очищающемся сочеловеке. Ибо на земле злые люди сопринадлежат механически и по произвольному соглашению, пребывая во взаимной вражде и ненависти. А добрые сопринадлежат органически, естественно обмениваясь любовью и духовностью в Боге: узнают же они друг друга прежде всего по чувству ответственности и по жажде любви и света. <…>
Страдание дается человеку для очищения. Его корень и источник – в присущем нам всем от природы способе жизни1субъективном, телесном, жаждущем, страстном, влекущем нас к самоутверждению, к себялюбию, самоугождению и греху. Несовершенный способ жизни вводит нас в грех и ведет нас к страданию. И задача наша состоит в том, чтобы не бежать от страдания, а принимать его и преодолевать им греховность нашего естества.
Чтобы убедиться в смысле и назначении страдания, необходимо представить себе на миг человеческую тварь, освобожденную от всякого страдания, целиком и навсегда. Никакая неудовлетворенность не грозила бы больше человеку: ни голод, ни жажда, ни боль, ни холод, ни эрос. Чувство неполноты, несовершенства, греха – угасло бы, а с ним вместе угасла бы и воля к совершенству; и вот: оказалось бы, что все всем довольны; все всем нравится; все всему предаются без меры и без выбора; все живут неразборчивым, первобытным сладострастием – даже не страстным, ибо страсть мучительна, даже не интенсивным, ибо интенсивность возможна лишь там, где силы нерастрачены, но накопились от воздержания...
Именно поэтому он остро испытывает всякое свое выхождение или выпадение из Божьего луча, судит себя за него, вменяет его себе и обозначает его словом "грех". Человек грешит не только нравственной черствостью, жадностью, криводушием и безудержной страстностью, но и всяческой пошлостью, беспредметным, бессовестным искусством, гражданской трусостью, взяткой и подкупностью, интригой и кривосудием, в науке – вздорными выдумками и слепотой, безответственным и жестоким обхождением с природой, хозяйственной эксплуатацией других, трудовой ленью, бессовестной растратой добра, и, сверх того, всяким духовным небрежением и религиозной неискренностью. Ибо все это есть попрание совестно-божественного зова; все это есть жизненное выхождение из Божьего "луча". И вот, для такого человека грех не есть некое особливое, затеянное им и осуществленное "злодеяние", которое пребывает в жизни в виде несчастного "острова", окруженного морем "безгрешного благополучия".
Напротив, грех есть для него разливающееся море безлюбовности, пошлости, духовной близорукости или даже слепоты, безответственности, нецельности и неискренности. И если даже эта стихия не сгущается у него в порывы гордости и злобы, в деяния жадности и мести, в дела коварства, интриги, бесчестия, низости, центральной лжи, корыстного предательства и убийства; и если даже эта стихия остается в нем сравнительно вялой, экстенсивной, недеятельной и напоминает собой скорее стоячее, топкое болото – то ее качество от этого нисколько не изменяется. "Качество" греха состоит в том, что человек, которому дана возможность "ходить в свете" и пребывать в огне, не ходит в свете, а пребывает "во мгле и сени смертной"; или, выражаясь словами греческого светолюбца и ясновидца Гераклита Эфесского, "наслаждается грязью" "βορ-βόρω χαίρειν".
При нравственно-религиозном ощущении такой остроты и последовательности неизбежно окажется, что "греха" в человеческой жизни гораздо больше, чем "света" и "огня"; что "свет" и "огонь" даются Сверху, но снизу не берутся; что в человеке есть тяготения, желания и страсти, прилепляющиеся к теме и, может быть, даже наслаждающиеся ей; и что следование по легкому пути вниз через широкие врата свойственно человеческому естеству, ибо путь вверх через врата узкие труден и скорбен. <…>
Всякое самооправдывание скрывает за собой потребность доказать другим людям, а может быть, и себе самому, что чувство вины, таинственно шепчущее в глубине оправдывающейся души, – "неосновательно" и "имеет право" угаснуть. Однако такая потребность не заслуживает удовлетворения. Духовный рост человека требует не самооправдания, а самообвинения. Даже там и тогда, где чужая неправота по отношению ко мне и моя "правота" по отношению к другим очевидны, надо исходить от того, что и я был неправ. Пусть эта моя неправота в данном случае "минимальна", "ничтожна", едва уловима; но религиозно-нравственная мудрость состоит в том, чтобы исследовать с величайшей тщательностью не чужую "очевидную" и "вопиющую" вину, а именно свою, "ничтожную" и "едва уловимую". При этом исследовании человек нередко и быстро убеждается в том, что его собственная вина была совсем уж не так ничтожна и что неуловимость ее была кажущаяся. Стоит ему только вооружиться совестно-нравственным "увеличительным стеклом" и он удостоверится, что нравственная "ткань" человеческой души, подобно материальной ткани тела, гораздо сложнее, утонченнее и деликатнее того, что видится на первый взгляд.
Человек, вооружающийся совестной "лупой" впервые – может быть просто потрясен и подавлен тем зрелищем сложно-утонченной мотивации и динамики каждого отдельного поступка, которое ему предстанет в нем самом. Он вдруг убедится, что он до известной степени желал того и втайне готовил то, чего он явно опасался; что он в известном смысле не хотел того, о чем мечтал и о чем, может быть, даже молился; что какие-то струи его жизни текут в направлении, обратном тому, которое он считает главным и решающим в своей жизни; что в тончайших ответвлениях его души укрываются оттенки зависти, ревности, жадности, зложелательства, честолюбия, тщеславия, ненависти, мстительности – страстей, которые он считал в себе преодоленными и "вычищенными" и которые, может быть, и в самом деле были ослаблены до того, что уже не могли подвигнуть его на самостоятельно- и цельно-мотивированный поступок; но искоренены они не были. И он вынесет, может быть, тягостное впечатление, будто его религиозно-нравственный катарсис "еще не начинался".
Это движение внутрь и вглубь, к сокровенным мотивам, к малозаметным деталям, к скрытым остаткам страстей в самом себе – в высшей степени плодотворно: оно научает человека смирению, зоркому созерцанию греха и настоящему, неутомимому религиозно-нравственному самоочищению; оно приучает его к чувству вины, к скорби о своей плохости, а следовательно, ведет его к одинокому раскаянию и к настоящему церковному покаянию. <…>
Душа человека есть живой организм, не знающий случайностей и изолированных событий. Оскорбитель не вдруг оскорбляет, а гневался ранее и давно копил оскорбляющую силу. Убийца не внезапно убивает: он созревал к своему убийству давно. Всякое падение человека, всякий грех имеет свою историю в его личной жизни и свои корни в его бессознательном. Признать свою вину и покаянно оплакать ее – не значит еще обрести в себе те душевные раны (быть может, раны детства), в которых зародился злой поступок и, тем более не значит исцелить их, обессилить их движущую и распаляющую силу и оздоровить корни своего инстинкта. Настоящее очищение не совершается одним, хотя бы и искренним, порывом к добру и Богу: оно требует всей остальной жизни. Оно требует именно того, что выражается русским простонародным словом: "надо замаливать свои грехи".
Вот почему человек, действительно ищущий религиозного очищения, склонен не гасить в себе чувство вины от совершенного деяния, но возвращаться к ней вновь и вновь, прослеживая нити, ведущие от него вглубь, находя в своей личной истории душевные раны и оздоровляя самые корни своего инстинкта.
Именно так надлежит понимать признание Пушкина ("Воспоминание"):
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Великие аскеты и Добротолюбцы православия знали это и так и поступали. Но и простые русские люди, жаждущие религиозной чистоты, без всякого научения шли этим совестным путем. <…>
Мы "вплетены" или "вращены" в мировой процесс, каждый из нас по-особому, по-иному, но все-таки – все, без исключения. Мы сплетены в великое всемирное единство: оно обстоит ныне в настоящем, уходит корнями в забытое прошлое и ведет в неизвестное, рождающееся и еще не рожденное будущее. Мы держимся друг за друга, мы держим друг друга – и валимся друг на друга, как в детской валятся уставленные в ряд "кирпичики". Нет оторванных или изолированных людей, несмотря на все наше душевно-духовное одиночество.1От черствости одного черствеет весь мир; развратный человек развращает собой всех; всякое преступление взывает на всю вселенную и передается во все концы; лентяй есть мертвая ячейка истории; от пошлого человека тускнеет Божий свет в мировом эфире; всякий духовный предатель предает сразу Бога и все человечество; всякая личная фальшь и злоба лжет на весь мир и гасит любовь во всей вселенной. <…>
Сколько тысяч лет накапливала крестьянская община свою волю к справедливости...
Сколько сот лет английский народ излучал в свой парламент волю к политической свободе... Сколько воли к праву и справедливости понадобилось излучить человечеству для того, чтобы создать суд присяжных...
И все эти явления, и другие бесчисленные, суть как бы "живые сгустки" общенародного или общечеловеческого "духовного излучения" и "эфира". И каждый из нас, кем бы он ни был и на какой бы общественной ступени он ни стоял, имеет возможность восхотеть лучшего, создать совершеннейшее, исправить дурное, поднять среди окружающих его людей волну качественной воли: совместным горением, искренним словом и – больше всего – живым делом, излучающим Божий лучи.
И ничто из этого никогда не проходит "даром" и не исчезает бесследно.
Ибо "мировой эфир" начинается в нас самих; он впитывает в себя взгляд наших глаз; он колеблется от наших слов; он сотрясается от наших дел; он загорается от наших молитв. Мы живем в нем, в его объеме; а он живет в нас, в нашей душевно-духовной ткани.
Надо раз навсегда увидеть это духовным оком, чтобы насадить и укрепить в себе то чувство великой ответственности, которое присуще каждому истинно-религиозному человеку.1Каждый из нас подобен крупинке радия, посылающего свои искорки в мир. И каждый из нас должен научиться контролировать свои искры и облагораживать их сокровенный, внутренний источник, чтобы не быть вредителем и отравителем мира, но очистителем и строителем. Надо принять на себя бремя своего существования и ответственности за свои "искры", "волны" и "излучения". И тот, кто совершит это, тот примет на свои слабые плечи бремя мирового бытия и ответственность за состояние мирового эфира. И изнемогая от этого бремени, начнет искать себе помощь и поддержку; и найдет ее в Боге и в молитве; а потом – в каждом добром, ответственном и очищающемся сочеловеке. Ибо на земле злые люди сопринадлежат механически и по произвольному соглашению, пребывая во взаимной вражде и ненависти. А добрые сопринадлежат органически, естественно обмениваясь любовью и духовностью в Боге: узнают же они друг друга прежде всего по чувству ответственности и по жажде любви и света. <…>
Страдание дается человеку для очищения. Его корень и источник – в присущем нам всем от природы способе жизни1субъективном, телесном, жаждущем, страстном, влекущем нас к самоутверждению, к себялюбию, самоугождению и греху. Несовершенный способ жизни вводит нас в грех и ведет нас к страданию. И задача наша состоит в том, чтобы не бежать от страдания, а принимать его и преодолевать им греховность нашего естества.
Чтобы убедиться в смысле и назначении страдания, необходимо представить себе на миг человеческую тварь, освобожденную от всякого страдания, целиком и навсегда. Никакая неудовлетворенность не грозила бы больше человеку: ни голод, ни жажда, ни боль, ни холод, ни эрос. Чувство неполноты, несовершенства, греха – угасло бы, а с ним вместе угасла бы и воля к совершенству; и вот: оказалось бы, что все всем довольны; все всем нравится; все всему предаются без меры и без выбора; все живут неразборчивым, первобытным сладострастием – даже не страстным, ибо страсть мучительна, даже не интенсивным, ибо интенсивность возможна лишь там, где силы нерастрачены, но накопились от воздержания...
Сколь отвратительна была бы та порода "человекообразных" существ, которая появилась бы в мире, – эти несметные толпы неразборчивых наслажденцев, безответственных лентяев, аморальных идиотов, не знающих ничего о "лучше и хуже", о совершенстве и о Боге, не умеющих ни выбирать, ни служить, ни бороться, ни жертвовать, ни молиться... Тогда дух на земле угас бы, культура прекратилась бы, история потеряла бы свой смысл и некому было бы воспринимать Божие откровение. Ибо страдание пробуждает духовность человека, оформляет и очищает его душу, учит его верному выбору, дает ему способность к совершенствованию, научает стойкости, мужеству, самообладанию, дает ему силу характера, ведет его к творчеству.
Мы обязаны страданию всем, что было творческого в истории.
Страдание есть соль жизни; и в то же время – ее стремящая сила; учитель меры и веры. Оно есть как бы ангел-хранитель человека, спасающий его от пошлости и очищающий его от греха. <…>
Страдание есть борьба за новую жизнь, за новую гармонию, за новую чистоту: не только за новое здоровье телесно исцеленного человека, как то хотел евангельский прокаженный, но гораздо больше и глубже – за новую чистоту души, за новую гармонию духа, за новую, цельную и блаженную жизнь в лучах Божиих. Поэтому человек не должен пугаться приходящего страдания, но должен "внимать" ему, вникать в его сокровенный голос, принимать его как духовно-осмысленное и целесообразное явление. Надо ставить своему страданию испытующие вопросы: "куда ведешь меня? чего желаешь от меня? чему учишь?" – и не только в смысле телесной организации и жизни, но и особенно. в смысле душевно-духовного бытия и строя. И тот, кто усвоит себе такое восприятие страдания, скоро поймет, что бремя страдания состоит, в значительной степени, из неосновательного страха перед страданием.
"Приятие" страдания не следует толковать и осуществлять в смысле произвольного наложения на себя болей и мучений. Этого не следует делать потому, что человек призван на земле одухотворять свое тело, а не материализировать свой дух. Победа духа над плотью состоит не в том, чтобы мучить свое тело, растрачивая на перенесение этой произвольной муки свою волю, свое терпение и энергию своего духа; это значило бы интенсифицировать свою телесную жизнь, переносить в нее центр тяжести своего существования, или, как выражаются аскеты, "томить томящего мя", а не освобождать его для духовного умиления, полета и радования. Победа духа над плотью, раз состоявшись, совсем не означает еще победы духа над пошлостью, злобой, завистью, ложью и грехом.
Главное седалище греха не в плоти, а в сердце и в бездуховности. Победивший свою плоть самомучением или оскоплением может вслед за тем предаться самой религиозно-слепой, пошлой, злобной, лживой и греховной жизни – что мы нередко и видим у скопцов. Мучающий себя и "убивающий" свою плоть гасит в себе огромные запасы жизненной энергии, которые он не умеет иначе одухотворить, но которые даны ему именно для одухотворения. Чувственное воздержание монаха накапливает эту энергию – ради одухотворения; самомучительство и оскопление растрачивает не только эту накопленную энергию, но еще сверх того великие запасы духовной силы, необходимые для перенесения телесных болей и неудобств.
Заданную человеку духовную борьбу, душевное страдание и духовную победу не следует подменять произвольной пыткой тела и волевым преодолением этой пытки. А произвольно томимое тело становится в довершение всего больным "субстратом" и "коррелятом" души, вынужденной считаться со всеми неудовлетворительностями больного дыхания, больного кровообращения, больного пищеварения и, главное, недостаточного орошения мозгового аппарата кровью. Человеческая природа создана мудро не только в устроении души и духа, но и в устройстве тела, и в связи этого тела с душой и духом. Поэтому мне представляется, что духовно-верный путь ведет к приятию органической мудрости в нас заложенной, а не к отвержению и не к "исправлению" ее произвольно налагаемыми телесными муками и уродованиями. Монашеская жизнь удалась монаху именно тогда, когда он сумел соблюсти свое телесное здоровье, как необходимый "субстрат" и "коррелят", подлежащей одухотворению душевной энергии. <…>
Надо научиться противостоять телесной боли и не растворяться в ней – искусство древних спартанцев и римлян. И больше того: надо научиться пользоваться телесной болью как поводом для укрепления воли и духа. Ибо умение одухотворять страдание есть одно из высших умений человека. Это умение должно быть выработано упражнением, вымолено молитвой и усвоено духом.
Надо признать далее, что душевное страдание может быть тяжелее и мучительнее физической боли. Однако и от него не следует "бежать", заглушая его развлечениями, вином и другими наркотиками.
Надо мужественно и спокойно принять его, т.е. найти в жизни время и доступ для того, чтобы предаться ему: духовно изгоревать свое горе, творчески истомить свою тоску; войти в свою душевную муку, дать ей самой высказаться внутренне до конца и найти для нее жизненнотворческий исход. Пьянство родится из слабоволия и трусости.
Слабовольный, предающийся своему слабоволию, делается безвольным и теряет форму личности и силу духа. Трус, не умеющий перестать бояться, т.е. не умеющий остановить свое пессимистически настроенное воображение, – становится рабом своего страха и идет навстречу самым тяжелым унижениям. Вот почему так важно не бояться своего страдания и своей тоски. Надо научиться спокойно и свободно смотреть в самую глубь своей страдающей души – с молитвой в сердце и с твердой уверенностью в предстоящей победе. Оку духа постепенно откроется первопричина душевного страдания: ее надо назвать по имени, выговорить наедине с собой во внутренних словах, излить ее в одиноких искренних слезах и произнести эти правдивые слова перед лицом Божиим во внутренней очистительной молитве.
В борьбе за одухотворение душевной муки надо, прежде всего и больше всего, твердо верить в свою духовную силу и помнить, что эта духовная сила имеет несравненный источник укрепления: молитву.
Мы обязаны страданию всем, что было творческого в истории.
Страдание есть соль жизни; и в то же время – ее стремящая сила; учитель меры и веры. Оно есть как бы ангел-хранитель человека, спасающий его от пошлости и очищающий его от греха. <…>
Страдание есть борьба за новую жизнь, за новую гармонию, за новую чистоту: не только за новое здоровье телесно исцеленного человека, как то хотел евангельский прокаженный, но гораздо больше и глубже – за новую чистоту души, за новую гармонию духа, за новую, цельную и блаженную жизнь в лучах Божиих. Поэтому человек не должен пугаться приходящего страдания, но должен "внимать" ему, вникать в его сокровенный голос, принимать его как духовно-осмысленное и целесообразное явление. Надо ставить своему страданию испытующие вопросы: "куда ведешь меня? чего желаешь от меня? чему учишь?" – и не только в смысле телесной организации и жизни, но и особенно. в смысле душевно-духовного бытия и строя. И тот, кто усвоит себе такое восприятие страдания, скоро поймет, что бремя страдания состоит, в значительной степени, из неосновательного страха перед страданием.
"Приятие" страдания не следует толковать и осуществлять в смысле произвольного наложения на себя болей и мучений. Этого не следует делать потому, что человек призван на земле одухотворять свое тело, а не материализировать свой дух. Победа духа над плотью состоит не в том, чтобы мучить свое тело, растрачивая на перенесение этой произвольной муки свою волю, свое терпение и энергию своего духа; это значило бы интенсифицировать свою телесную жизнь, переносить в нее центр тяжести своего существования, или, как выражаются аскеты, "томить томящего мя", а не освобождать его для духовного умиления, полета и радования. Победа духа над плотью, раз состоявшись, совсем не означает еще победы духа над пошлостью, злобой, завистью, ложью и грехом.
Главное седалище греха не в плоти, а в сердце и в бездуховности. Победивший свою плоть самомучением или оскоплением может вслед за тем предаться самой религиозно-слепой, пошлой, злобной, лживой и греховной жизни – что мы нередко и видим у скопцов. Мучающий себя и "убивающий" свою плоть гасит в себе огромные запасы жизненной энергии, которые он не умеет иначе одухотворить, но которые даны ему именно для одухотворения. Чувственное воздержание монаха накапливает эту энергию – ради одухотворения; самомучительство и оскопление растрачивает не только эту накопленную энергию, но еще сверх того великие запасы духовной силы, необходимые для перенесения телесных болей и неудобств.
Заданную человеку духовную борьбу, душевное страдание и духовную победу не следует подменять произвольной пыткой тела и волевым преодолением этой пытки. А произвольно томимое тело становится в довершение всего больным "субстратом" и "коррелятом" души, вынужденной считаться со всеми неудовлетворительностями больного дыхания, больного кровообращения, больного пищеварения и, главное, недостаточного орошения мозгового аппарата кровью. Человеческая природа создана мудро не только в устроении души и духа, но и в устройстве тела, и в связи этого тела с душой и духом. Поэтому мне представляется, что духовно-верный путь ведет к приятию органической мудрости в нас заложенной, а не к отвержению и не к "исправлению" ее произвольно налагаемыми телесными муками и уродованиями. Монашеская жизнь удалась монаху именно тогда, когда он сумел соблюсти свое телесное здоровье, как необходимый "субстрат" и "коррелят", подлежащей одухотворению душевной энергии. <…>
Надо научиться противостоять телесной боли и не растворяться в ней – искусство древних спартанцев и римлян. И больше того: надо научиться пользоваться телесной болью как поводом для укрепления воли и духа. Ибо умение одухотворять страдание есть одно из высших умений человека. Это умение должно быть выработано упражнением, вымолено молитвой и усвоено духом.
Надо признать далее, что душевное страдание может быть тяжелее и мучительнее физической боли. Однако и от него не следует "бежать", заглушая его развлечениями, вином и другими наркотиками.
Надо мужественно и спокойно принять его, т.е. найти в жизни время и доступ для того, чтобы предаться ему: духовно изгоревать свое горе, творчески истомить свою тоску; войти в свою душевную муку, дать ей самой высказаться внутренне до конца и найти для нее жизненнотворческий исход. Пьянство родится из слабоволия и трусости.
Слабовольный, предающийся своему слабоволию, делается безвольным и теряет форму личности и силу духа. Трус, не умеющий перестать бояться, т.е. не умеющий остановить свое пессимистически настроенное воображение, – становится рабом своего страха и идет навстречу самым тяжелым унижениям. Вот почему так важно не бояться своего страдания и своей тоски. Надо научиться спокойно и свободно смотреть в самую глубь своей страдающей души – с молитвой в сердце и с твердой уверенностью в предстоящей победе. Оку духа постепенно откроется первопричина душевного страдания: ее надо назвать по имени, выговорить наедине с собой во внутренних словах, излить ее в одиноких искренних слезах и произнести эти правдивые слова перед лицом Божиим во внутренней очистительной молитве.
В борьбе за одухотворение душевной муки надо, прежде всего и больше всего, твердо верить в свою духовную силу и помнить, что эта духовная сила имеет несравненный источник укрепления: молитву.
Глава Двадцать Вторая
О МОЛИТВЕ
О МОЛИТВЕ
Немало есть и таких людей, которые хотели бы до молитвы получить непоколебимые и окончательные доказательства бытия Божия, с тем чтобы только после этого приступить к молитве: они не хотят "дышать", пока им не докажут существование воздуха; – отрекаются от света, пока не поймут его природы; – не желают музыки, пока им не выдумают теорию музыкального бытия. А между тем естествен и необходим обратный порядок: чтобы убедиться в существовании воздуха, необходимо дышать, и только дышащий человек может исследовать природу воздуха и найти его формулу; надо жить светом, чтобы постигнуть, что есть свет; надо внимать музыке, – долго, глубоко и самозабвенно, – чтобы иметь основание спросить себя, откуда эта дивная реальность и как осмыслить ее бытие?
В религии, как и во всей жизни человека, опыт, посвященный предмету, предшествует верному суждению о нем. Нельзя судить, решать и действовать до опыта или помимо опыта. Не стоит построять внеопытные доктрины о предметах, доступных опыту и открывающихся только через опыт. А молитва входит в самую сущность религиозного опыта. Она начинается с первого мига обращения человека к Боту, с самого возникновения религиозного акта.
И вот, слагается, по-видимому, парадокс, будто можно молиться, не веруя в существование Бога. Но этот парадокс – кажущийся; он может быть затруднением только для того, кто совсем лишен религиозного опыта и привык иметь дело с чувственными вещами и явлениями, где трезвые люди сначала "удостоверяются", а потом уже "общаются" с удостоверенным предметом. Однако и в чувственном опыте не редки случаи, когда человек "обращается" к предмету без удостоверения, до удостоверения и для удостоверения.
Входя в темную комнату, мы спрашиваем: "кто тут?" Или: "здесь есть кто-нибудь?" В минуту опасности или гибели человек взывает о помощи, не зная, услышит ли его кто-нибудь, или даже зная, что его никто не услышит. Мы иногда внутренне "разговариваем" с отсутствующими друзьями так, как если бы они были с нами, и с умершими, не имея "удостоверения" в их загробном существовании. Историк общается с образами прошлого, зная, что его уже нет; патриот горит душой о будущем своего народа, зная, что его еще нет. <…>
Пока происходит рассуждающий отбор и человек объективно рассматривает свои "дела и дни", молитва, вероятно, не дастся ему. Но как только начнется движение предпочитающего и полюбляющего сердца, так молитва "неизвестному Богу" станет возможной и естественной. Ибо молитва есть горение сердца о совершенном и к Совершенному. Для того, чтобы она началась, не надо никакого "удостоверения" в объективном бытии Бога, как высшего и абсолютного Лица: достаточно того, чтобы сердце избрало, предпочло и посвятило себя Духу, обретенному им в пределах своего собственного опыта. Это еще не вера в Бога; и "предпочтенное" не есть еще Бог. Это есть всего лишь – лично испытанный и сердцем узнанный край Ризы Божией или благодарно и радостно принятый дар Его Благодати. Этого довольно: первое касание и приятие осуществилось; и молитва может начаться. <…>
Если человек, входя в темную комнату, спрашивает тревожно, "кто тут?", – то ему естественно и необходимо, входя в сферу ослепляющего духовного света и зажмуриваясь от непривычки, воскликнуть: "Кто это? чей это свет слепит меня? какая сила качествует в этих изумительных и радующих мое сердце лучах?!" И, далее, ему естественно помыслить: "Этот свет не от меня исходит, ибо, вот, рядом с ним – во мне тьма и бездуховность... Это с виду – мои состояния и содержания, но свет в них – высший: предметный, устойчивый, непреходящий, сильный и творческий... Где же Источник его, где это светящее светило?!" <…>
От настоящей молитвы у человека остается в душе некое тихое, тайное, бессловесное молитвование, подобное немеркнущему, спокойному, но властному свету. И чем чаще человек осязает его в недрах своего сердца, чем охотнее и любовнее он прислушивается к нему, тем более власти приобретает в нем этот тихий свет, тем больше радости он несет ему, тем очистительнее его действие. Это безмолвное молитвование начинает непрестанно излучаться из глубины сердца, как бы желая освятить все жизненные содержания души.Это есть как бы негаснущая лампада пред иконой; но такая лампада, которую человек носит в самом себе; без света которой он не решает дел своей жизни; мало того, в которой таинственно заключается его собственное, его главное Я, трепетно предстоящее Господу Богу.
А между тем обыденная жизнь совершает свой неудержимый ход. И человек знает, что в нем живет это сияние трепетной бессловесной молитвы, как вечное памятование о Боге. Эта молитва, ни о чем не просит, ничего не домогается, но "знает" о Главном и непрерывно подтверждает это Главное. Тогда человеку достаточно "взглянуть духовным оком" в направлении этой светящейся глубины – и наступает чувство покоя и силы. Иногда достаточно мгновенной мысли об этой "открытой двери", и чувство одиночества исчезает. Этот "взгляд", этот "помысел" есть кратчайшая из молитв; но кто испытал ее живительную силу, тот никогда не забудет о Боге. Невольно вспоминаются духоутешительные слова Варсонуфия Великого: "Если же и не произнесешь в сердце имени Божия, а только вспомнишь о Боге, то это еще скорее призывания и достаточно в помощь тебе" (Добротолюбие. II. 584).
Эту кратчайшую и легчайшую "молитву духовного ока" можно было бы описать, как радость Совершенству, как любовь к Нему и желание Его на всех путях. Это есть дверь соединения. Это есть тихое журчание Родника. Это есть удостоверение присутствия. Способ предстояния. Залог личного бессмертия. Источник духовной силы. Камень духовного характера. Постоянный обет верности. Голос совести. Способность стать всегда сильнее самого себя. Мгновенное вхождение в луч Божий.
Человек может думать о чем угодно, вершить свои жизненные дела, есть, пить, спать, напряженно работать и предаваться отдыху, а внутренний свет Купины не покинет его: он будет мерой вспыхивать и очищать его душу; освещать в жизни добро и зло, давая всегда силу, и волю, и умение выбрать благое; и лишать человека возможности совершать злые, черствые, низкие и пошлые поступки. При свете этой молитвенной Купины нельзя делать зла, и нельзя не делать того, к чему зовет совесть.
Чем прочнее этот акт безмолвного памятования, тем духовнее характер человека, тем более духовной необходимости в его жизни, тем ближе он к Богу. И стоит ему только воззвать к этому свету – и снова разгорится огонь, заструится живая любовь, запоет сердце, заговорит чистая совесть и раскроется перед ним дверь в потусторонний мир суверенным осязанием личного бессмертия. Человек почувствует себя у берега земной жизни и услышит дыхание Божие в себе и в мире.
Таково действие сокровенной и постоянной, "неумолкающей", безмолвной молитвы. Она есть уже начало единения с Богом.
Эту кратчайшую и легчайшую "молитву духовного ока" можно было бы описать, как радость Совершенству, как любовь к Нему и желание Его на всех путях. Это есть дверь соединения. Это есть тихое журчание Родника. Это есть удостоверение присутствия. Способ предстояния. Залог личного бессмертия. Источник духовной силы. Камень духовного характера. Постоянный обет верности. Голос совести. Способность стать всегда сильнее самого себя. Мгновенное вхождение в луч Божий.
Человек может думать о чем угодно, вершить свои жизненные дела, есть, пить, спать, напряженно работать и предаваться отдыху, а внутренний свет Купины не покинет его: он будет мерой вспыхивать и очищать его душу; освещать в жизни добро и зло, давая всегда силу, и волю, и умение выбрать благое; и лишать человека возможности совершать злые, черствые, низкие и пошлые поступки. При свете этой молитвенной Купины нельзя делать зла, и нельзя не делать того, к чему зовет совесть.
Чем прочнее этот акт безмолвного памятования, тем духовнее характер человека, тем более духовной необходимости в его жизни, тем ближе он к Богу. И стоит ему только воззвать к этому свету – и снова разгорится огонь, заструится живая любовь, запоет сердце, заговорит чистая совесть и раскроется перед ним дверь в потусторонний мир суверенным осязанием личного бессмертия. Человек почувствует себя у берега земной жизни и услышит дыхание Божие в себе и в мире.
Таково действие сокровенной и постоянной, "неумолкающей", безмолвной молитвы. Она есть уже начало единения с Богом.
Глава Двадцать Третья
О ЕДИНЕНИИ
О ЕДИНЕНИИ
Божья дверь всегда и для всех открыта; из нее льется мощный и благодатный свет; и если человек "не находит" эту дверь или бежит от этого света, предпочитая мрак, то причина этой беспомощности и этого бегства – не в замкнутости, или, как Гегель выражается, не в "завистливости" ("neidisch") Бога, а в недоумении, в слепоте или в нежелании человека. Понятно, что волюнтаристические религии (католицизм, магометанство) будут объяснять эту духовную слепоту именно недостатком воли или даже злой волей человеческого существа.
Так или иначе, но человек, работающий над углублением и расширением своего религиозного опыта, быстро убеждается в том, что Божия дверь действительно открыта и что из нее действительно льется мощный и благодатный свет. И чем больше он будет вкладывать в этот процесс искреннего чувства и свободного созерцания, тем сильнее сделается в нем это своеобразное чувство "благосклонной и щедрой встречи" свыше. Постепенно в нем сложится уверенность, что каждому человеку "предоставляется" воспринять от этого Света столько, сколько он сам захочет и сможет; и еще, что человек, совсем не воспринимающий этого Света (т.е. света откровения) или даже не знающий ничего о его бытии, должен "пенять" на самого себя. <…>
Смысл религии в том, что человек ищет единения с Богом.
Человек чувствует себя малым, слабым и несовершенным; и видит Бога великим, сильным и совершенным. Из этого могут возникнуть два противоположные настроения.
Первое – отрицательное: собственная малость и слабость уязвляют человека; чувство собственного несовершенства унижает и оскорбляет его. Отсюда может возникнуть некая метафизическая обида (глубочайшая и острейшая из обид!), зависть к Божией силе, ненависть к Божьему величию, отвращение от Божьего совершенства. Начнется бунт и восстание. Обиженный – не прощает, ненавидящий – мечтает "совлечь", завистник – посягает, бунтовщик – начинает борьбу.
Это путь демона (во всех его обличиях). Демон не нашел в себе смирения перед величием и благостью. Он не нашел в себе радости совершенству. Он не нашел в себе свободы для предметного созерцания – и стал пленником своего метафизически уязвленного "Я". Демон первый "аутист" 1 и "эгоцентрист", сам себя отлучивший от Бога. Он превратил величайшую радость мира в неисцелимую рану и встретил откровение злобой. И любовь стала в нем ненавистью; свет отбросил его во тьму; правда стала для него невыносимой; и ложь сделалась его стихией. Узрев Бога, он не спасся, а погиб, ибо почувствовал одно: что он сам – не Бог и что примириться с этим он не может. Он ответил на откровение посягательством и, утвердившись в уязвленной гордыне, потерял путь, ведущий к единению с Богом. В этом трагедия демона.
Так или иначе, но человек, работающий над углублением и расширением своего религиозного опыта, быстро убеждается в том, что Божия дверь действительно открыта и что из нее действительно льется мощный и благодатный свет. И чем больше он будет вкладывать в этот процесс искреннего чувства и свободного созерцания, тем сильнее сделается в нем это своеобразное чувство "благосклонной и щедрой встречи" свыше. Постепенно в нем сложится уверенность, что каждому человеку "предоставляется" воспринять от этого Света столько, сколько он сам захочет и сможет; и еще, что человек, совсем не воспринимающий этого Света (т.е. света откровения) или даже не знающий ничего о его бытии, должен "пенять" на самого себя. <…>
Смысл религии в том, что человек ищет единения с Богом.
Человек чувствует себя малым, слабым и несовершенным; и видит Бога великим, сильным и совершенным. Из этого могут возникнуть два противоположные настроения.
Первое – отрицательное: собственная малость и слабость уязвляют человека; чувство собственного несовершенства унижает и оскорбляет его. Отсюда может возникнуть некая метафизическая обида (глубочайшая и острейшая из обид!), зависть к Божией силе, ненависть к Божьему величию, отвращение от Божьего совершенства. Начнется бунт и восстание. Обиженный – не прощает, ненавидящий – мечтает "совлечь", завистник – посягает, бунтовщик – начинает борьбу.
Это путь демона (во всех его обличиях). Демон не нашел в себе смирения перед величием и благостью. Он не нашел в себе радости совершенству. Он не нашел в себе свободы для предметного созерцания – и стал пленником своего метафизически уязвленного "Я". Демон первый "аутист" 1 и "эгоцентрист", сам себя отлучивший от Бога. Он превратил величайшую радость мира в неисцелимую рану и встретил откровение злобой. И любовь стала в нем ненавистью; свет отбросил его во тьму; правда стала для него невыносимой; и ложь сделалась его стихией. Узрев Бога, он не спасся, а погиб, ибо почувствовал одно: что он сам – не Бог и что примириться с этим он не может. Он ответил на откровение посягательством и, утвердившись в уязвленной гордыне, потерял путь, ведущий к единению с Богом. В этом трагедия демона.
1От греческого "αύτόσ" что значит "сам". Аутистом называется человек, не видящий предмета "из-за" самого себя.
Человек, идущий по пути демона, усвоивший себе демонический акт, – не будет искать единения и не найдет его, пока не обновит своего злосчастного акта. Он останется пленником своей духовной разъедающей язвы, перебирая все ее видоизменения и переходя – от бесплодного сомнения к опустошительному отрицанию, от бесстыдства к кощунству, от скуки к низости, от лживого злословия и клеветы к ожесточенной слепоте, от гложущей зависти к нелепой мести, от аффектированного презрения к своей единственной утехе – поруганию совершенства и погублению всего лучшего и благороднейшего на земле.1На этом пути нет религиозности и не будет ни религиозного опыта, ни религии; будет одно ожесточенное "Нет", все мнимое "величие" которого состоит в его последовательном и законченном ничтожестве. <…>
Религиозно настроенный человек, видя себя малым, слабым и несовершенным, а Господа – великим, сильным и совершенным, забывает о себе, пленяется совершенством и сосредоточивается на Боге. Он находит в себе духовную свободу 3 для предметного созерцания; и чем более он пленяется Предметом, тем более он освобождается духовно от самого себя.
Религиозно настроенный человек, видя себя малым, слабым и несовершенным, а Господа – великим, сильным и совершенным, забывает о себе, пленяется совершенством и сосредоточивается на Боге. Он находит в себе духовную свободу 3 для предметного созерцания; и чем более он пленяется Предметом, тем более он освобождается духовно от самого себя.
1Срв. у Ницше упоенную формулу этой низости: "Lust an der Vernichtung des Edelslen und am Anblick, wie er Schrittweise ins Verderben gerat". Wille zur Macht. I 5. 129.
2Cм. в моей книге "Blick in die Ferne" главу 7 о демонизме и сатанизме.
3См. главу вторую "О духовности религиозного опыта".
2Cм. в моей книге "Blick in die Ferne" главу 7 о демонизме и сатанизме.
3См. главу вторую "О духовности религиозного опыта".
Это дает ему дар смирения перед Божиим величием и силой; и позволяет ему беззаветно и искренно радоваться Совершенству. Величие Божие не унижает и не оскорбляет его, но вызывает в нем жажду единения. Свобода и радость дают ему любовь. Ему необходима правда о Боге, которого он полюбил "сердцем", умом и "помышлением", созерцанием, волей и жизненными делами. Он воспринимает от Бога свет и не влечется к тьме и лжи. И вследствие этого вся его жизненная судьба определяется единением с Богом. Он совершает "приятие сердим"1и "око его отверзается";2он приступает к религиозному очищению,3идет по "огням жизни",4утверждает в себе искренний5и цельный6религиозный акт и научается настоящей "молитве единения". <…>
Этим проливается свет во тьму и мятущемуся инстинкту человека возвещается "благая весть": человеческая душа приемлется, одухотворяется и возводится. τοϋ Мтф. 22. 37. Мрк. 12, 30; Луки. 10, 27), ибо целостная любовь к Богу одухотворит инстинкт человека, откроет ему высшую и истинную ступень единения с Богом и приблизит его к Царствию Божию (βασιλεία Мтф. 22. 37. Мрк. 12, 30. Луки. 10, 27), "всей душой" (φυχή Мтф. 22, 37; Луки. 10, 27). "всем разумением" (διάνοια χωρείτω" Мтф. 19, 12). И, далее, оно указывает путь этого пресуществления: надо возлюбить Господа-Бога – "всем сердцем" (καρδία χωρεϊν δυνάμενοσ Евангелие Христа как бы "нисходит во ад" человеческой инстинктивности, с тем, чтобы назвать по имени ее главную, творческую силу (любовь) и указать ей ее призвание, ее предметно-верное направление, ее духовно-очистительный путь.
Поэтому не следует толковать и излагать евангельское учение как "мораль" или как доктрину "долга"; ибо на самом деле оно есть учение живой нравственности, не осуждающее, а прощающее, не проклинающее, а ободряющее и благословляющее, не порабощающее, а освобождающее. Евангелие не "требует" и не "грозит"; оно говорит человеку: "смотри, ты уже любишь от природы, научись же любить от духа – Единое на потребу". Оно зовет пресуществить "Эрос" в "Агапэ"; если кто может вместить это пресуществление целиком и до конца, то пусть вместит и целиком.
Итак, дух не отвергает ни плоть, ни душу, но одухотворяет их, "потенцирует" и устрояет на высшем уровне религиозного единения.
Все то, что в человеческой жизни не прониклось началами духа, должно быть не отвергнуто и не подавлено, а принято, пронизано светом и преображено. Духу дано жить на земле только в обличий индивидуальной души с ее инстинктивностью и страстностью, и, далее, в обличий личного тела, с его естественным строением, потребностями и недугами. Отменить или погасить это невозможно, но одухотворять все это должно; и одухотворить – можно, памятуя постоянно о том, что природа, "изгнанная в дверь, будет пытаться влететь в окно".<…>
Этим проливается свет во тьму и мятущемуся инстинкту человека возвещается "благая весть": человеческая душа приемлется, одухотворяется и возводится. τοϋ Мтф. 22. 37. Мрк. 12, 30; Луки. 10, 27), ибо целостная любовь к Богу одухотворит инстинкт человека, откроет ему высшую и истинную ступень единения с Богом и приблизит его к Царствию Божию (βασιλεία Мтф. 22. 37. Мрк. 12, 30. Луки. 10, 27), "всей душой" (φυχή Мтф. 22, 37; Луки. 10, 27). "всем разумением" (διάνοια χωρείτω" Мтф. 19, 12). И, далее, оно указывает путь этого пресуществления: надо возлюбить Господа-Бога – "всем сердцем" (καρδία χωρεϊν δυνάμενοσ Евангелие Христа как бы "нисходит во ад" человеческой инстинктивности, с тем, чтобы назвать по имени ее главную, творческую силу (любовь) и указать ей ее призвание, ее предметно-верное направление, ее духовно-очистительный путь.
Поэтому не следует толковать и излагать евангельское учение как "мораль" или как доктрину "долга"; ибо на самом деле оно есть учение живой нравственности, не осуждающее, а прощающее, не проклинающее, а ободряющее и благословляющее, не порабощающее, а освобождающее. Евангелие не "требует" и не "грозит"; оно говорит человеку: "смотри, ты уже любишь от природы, научись же любить от духа – Единое на потребу". Оно зовет пресуществить "Эрос" в "Агапэ"; если кто может вместить это пресуществление целиком и до конца, то пусть вместит и целиком.
Итак, дух не отвергает ни плоть, ни душу, но одухотворяет их, "потенцирует" и устрояет на высшем уровне религиозного единения.
Все то, что в человеческой жизни не прониклось началами духа, должно быть не отвергнуто и не подавлено, а принято, пронизано светом и преображено. Духу дано жить на земле только в обличий индивидуальной души с ее инстинктивностью и страстностью, и, далее, в обличий личного тела, с его естественным строением, потребностями и недугами. Отменить или погасить это невозможно, но одухотворять все это должно; и одухотворить – можно, памятуя постоянно о том, что природа, "изгнанная в дверь, будет пытаться влететь в окно".<…>