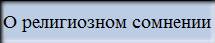О религиозном сомнении
НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА
Истинная религиозность – свободна, но свободна через Бога и в Боге; истинная религиозность имеет своим содержанием божественное откровение, но она приемлет его свободным сердцем и живет в нем невынужденной любовью. <…>
Каждый человек имеет неотъемлемое право свободно обращаться к Богу, искать боговосприятия, осуществлять его, прилепляться к Богу сердцем, помыслами, волей и делами и определять свою жизнь этим обращением. Это есть естественное право – ибо в нем выражается природа и сущность духа; это есть безусловное право – ибо оно не угасает ни при каких условиях; оно неотъемлемо – ибо дано Богом и ненарушимо для человека, а кто пытается "отнять" его, тот попирает закон Божий и жизнь человеческого духа; оно неотчуждаемо – ибо человек не может отречься от него, а если отречется, то отречение его не будет весить перед лицом Божиим.
Это право отнюдь не отрицает ни церкви, ни ее призвания, ни ее заслуг, ни ее компетентности; но оно указывает церкви ее основную задачу: воспитать своих сынов к свободному, самостоятельному и предметному боговосприятию. Каждый верующий должен носить в себе самом живые корни своей веры; – веровать не потому, что "с детства так воспитан и привык", но потому, что Божие пламя горит в его свободном сердце, светит его личному разуму, наполняет его волю, озаряет и осмысливает всю его жизнь; – веровать не в то, что ему лишь "преподано и указано", но в то, что он действительно узрел и созерцает сердцем вживе и въяве; веровать не только на людях и для людей, а в одиночестве ночной темноты, лютой опасности, захлестывающего моря, снежной пустыни и тайги, в последнем одиночестве тюремного заключения и незаслуженной казни.
Истинно верующий есть самостоятельный дух; – самосильный не в противопоставлении Богу, а в отдельно-поставлении от людей; – самосильный в том смысле, что он сам имеет любовь к Богу, доступ к Богу и созерцание Бога, имеет все это в себе самом, в одиночестве и самостоянии собственного духа; – он самосилен Божиею силой.
Такие верующие подобны островам в море, или гранитным камням в строении. Нельзя строить церковь из рыхлых, рассыпающихся или внутренне пустых камней. Человеческая организация, в которой все члены надеются на других, а сами не "стоят", не "держат", не "несут" и не "делают", имеет мнимое бытие.
Есть искусники, которые умеют вырезать из бумаги хоровод бумажных человечков, держащих друг друга за ручки. Такие хороводы могут даже стоять, если поверхность стола не слишком гладка и если в комнате нет сквозняка. Но достаточно воздуху придти в движение – и весь хоровод несамостоящих человечков летит под стол.
Церковь держится людьми самостоятельной любви, самостоятельной молитвы и самостоятельного делания. Есть ли что-нибудь более жалкое и фальшивое, как собрание черствых людей, декламирующих о любви, или собрание расчетливых скупцов, восхваляющих доброту и жертвенность? Один человек с горячим сердцем реальнее целого сонма таких лицемеров. И если церковь во время богослужения полна людьми, из коих ни один не молится, ибо не способен к самостоятельной молитве, но все только воображают про других, будто они молятся, то вся эта религиозная совместность остается мнимой и под пеплом мертвых слов Божий огонь не вспыхивает совсем. Делающий о Боге – делает сам и не предоставляет другим делать вместо себя, особенно же тогда, когда зовет и ведет их.
Именно поэтому каждая церковь призвана к тому, чтобы растить, крепить и множить в своем составе людей самостоятельной любви, самостоятельной молитвы и самостоятельного делания. А это значит прежде всего – людей самостоятельного Богосозерцания и подлинного религиозного опыта.
Но такое созерцание и такой опыт требуют непосредственного обращения к Богу; именно такого обращения, которого искали и добивались все истинные боголюбцы всех времен и народов, в особенности же все великие отшельники православного востока, начиная от Антония и Макария и кончая Феофаном Затворником и старцами наших дней. <…>
Это не означает, что всякое "посредничество" в религии не нужно или недопустимо: посредничество пророков, святых, церкви, священников и епископов. Но это означает, что всякое посредничество в религии имеет своей главной целью непосредственное соединение человека с Богом. И если бы нашелся христианский богослов, отвергающий эту основоположную истину, то достаточно было бы указать ему на высший и священнейший акт христианской религиозности, на Таинство Причащения, в котором верующий получает возможность принять Тело и Кровь Христову в форме непосредственнейшей из всех, доступных земному человеку: принять не "восприятием", не зрением, не слухом, не прикосновением, но вкушением, непосредственно вводящим Св. Тайны в телесное естество человека – до полного и нерасторжимого отождествления. Все предшествующие сему действия, – пост, молитва, покаяние, исповедь, отпущение получают значение подготовительных к непосредственному единению. И не подлежит никакому сомнению, что Причащение Св. Тайн указывает и преобразует верующему христианину ту силу и ту степень духовного единения с Богом (столь же непосредственного), к которому он призван стремиться и приближаться. <…>
Это непосредственное касание и единение не может быть заменено никаким чисто человеческим посредничеством. Самая идея о том, что "посредник" между Богом и человеком имеет право и основание отделить человека от Бога, заслонить Бога собой, не допустить человека до Бога, и помешать Богу непосредственно обратиться к человеку есть идея религиозно-разрушительная, противорелигиозная, восстающая на Бога и порабощающая человека. Между Богом и человеком нельзя воздвигать разлучающих препятствий. Если бы один человек сказал другому: "дай, я заслоню от тебя солнце, чтобы ты лучше воспринял его благодатную силу!", то заслоненный имея бы основание дать ему тот ответ, который Александр получил от Диогена: "отойди и не заслоняй мне солнца!".
И все это означает, что основная задача всякого религиозного посредника состоит в том, чтобы научить человека непосредственному обращению к Богу, подготовить его к этому величайшему духовному счастью и обслуживать в дальнейшем это единение, не умаляя его, а поддерживая и углубляя. <…>
Религия есть живое общение души с Богом, а не с замещающим Его человеком. Это есть установление и поддержание таинственной и благодатной духовной связи с самим Предметом. Только живая религиозность есть настоящая; но живая религиозность состоит в живом, самодеятельном искании самого Бога, Его света. Его любви, Его откровения: сердечное созерцание человека вступает в сферу Предмета, а Предмет благодатно вступает в душу человека, очищая ее от "всякой скверны" и одухотворяя ее. Здесь необходимо самостоятельное и непосредственное предстояние Богу, непосредственное приятие Его "сердцем, душой и помышлением"...
Во всех областях человеческой жизни и деятельности зрелость духа определяется его самостоятельным и непосредственным обращением к предмету, так, что недохождение до предмета или недопущение до предмета является признаком несамостоятельности, несвободы и незрелости. Но если это верно применительно к науке и к искусству, в ремеслах, в этике и политике, то в религии это получает совершенно исключительное значение. Ибо нет духовной связи более глубокой, более интимной, более всепроникающей, как связь между человеком и Богом.
Иметь подлинное религиозное бытие значит дерзать самому обращаться к самому Богу, с благоговейным тщанием ("relegando") творить свою непосредственную связь с Ним, быть с Ним "наедине", не бояться и не избегать этого "одиночества", напротив, ценить его так, как его ценили великие пустынножители. Это можно было бы выразить так: тот, кто не дерзает молиться "сам", "без других", – тот и вообще не смеет молиться, совсем не смеет, он не смеет и при других, и через других; ибо – и при других, и через других его молитва, если она на высоте, будет самостоятельна и непосредственна. Но тот, кто не смеет, тот и не творит: он опасливо сторонится, робко воздерживается и только обманывает себя, когда думает, что "через других" он смеет и молится. Когда молитва осеняет душу человека, тогда он молится "сам", "один" и непосредственно. Потребность в молитве есть потребность молиться самому. Тот, кто смеет и может, тот смеет и может, оставшись совсем один: непосредственно. Это, конечно, не значит, что он может присвоить себе компетентность таинства, но это значит, что он понял свою компетентность непосредственного богообращения. <…>
Если мы обратимся теперь к положению "заграждающего" духа, то увидим следующее.
"Заграждающий" не заграждает, если он признает драгоценность непосредственного религиозного единения и старается пробудить и укрепить его; если он посредничает именно для того, чтобы сделать человека религиозно самостоятельным, если он воспитывает временно загражденного к непосредственности...
Но если он заграждает, отрицая возможность и драгоценность непосредственного религиозного единения и стремясь увековечить свое "междустояние", то дело обстоит иначе. Это значит, что он признает "пасомых" членов своей церкви неспособными к непосредственному боговосприятию, а неспособность эту считает не временной и не условной, а субстанциальной и окончательной. Он считает, что люди вообще религиозно-бессильны по самой природе своей души: они обречены на своего рода "imbecillitas religiosa", и потому могут только блуждать и заблуждаться, еретичествовать и грешить, если не будут получать обязательные "копии" и авторитетные "сведения" от посредника. Они от природы присуждены к сущей бого-отлученности...
Поэтому заграждающий признает церковных профанов способными только к "суррогату" религии и культивирует в них не религию а ее подобие. Он систематически приучает их к тому, чтобы они не дерзали помышлять о самом Боге, чтобы они не смели желать общения с Ним и добиваться непосредственного восприятия: заградитель дает им "надлежащее" религиозное содержание, и они должны довольствоваться им.
Это ведет к целому ряду опасных и соблазнительных последствий.
Прежде всего, в этом есть прямое намерение не допустить верующих до Бога, лишить их благодатного общения с Ним, удалить их от Него. Церковь, непрестанно озабоченная удалением людей от Бога, подрывает свое собственное существование. Пресекая и воспрещая непосредственное обращение верующих к Богу, она лишает их всей той благодати, которая дается людям в этом непосредственном общении. В полном и строгом смысле – она лишает их религии, обессиливает этим их свободное сердце и обескрыливает их самостоятельный дух.
В то же время священство или жречество, монополизирующее подлинную религию, внушает верующим, будто оно есть для них единственный источник откровения и благодати, единственное средоточие Бога на земле. Этим оно вселяет в них ложное представление о своем божественном авторитете и вводит их в кощунственный соблазн, – признать своего заградителя за воплощение Божие, за персонифицированный религиозный Предмет, за самого земного Бога.
Этот соблазн рано или поздно захватывает и самого внушающего посредника. Внушая другим о себе черезмерное и ложное, он незаметно привыкает сам к этой идее и к этому соблазну. Превозносясь в чужих глазах, он превозносится и в себе самом. Требуя слепой покорности и слепого благоговения, он начинает верить в свою божественность и святость. И вот он уже объявляет себя "заместителем" Бога на земле и возводит в догмат веры непогрешимость своего религиозно-церковного изволения.
Но и этим последствия заграждения не исчерпываются. Церковь, построенная на заграждении, постепенно утрачивает свою духовность и низводит себя на уровень бессознательного душевного механизма. Это происходит от того, что она силится насаждать и поддерживать религию недуховными или прямо противодуховными средствами: не свободной самодеятельностью сердца и созерцания, а слепой покорностью земному авторитету; – пассивным восприятием сообщаемых "сведений"; подражанием ("копия"), обязательными обрядовыми упражнениями, повторяемыми бесчисленное множество раз (механический штамп); – массовым психическим заражением, страхом, угрозой и в конце концов неизбежным осуществлением этой угрозы (единоличным или массовым). А это означает, что религия измеряется уже не духовными мерилами, а иными: мерилом политической полезности, мерилом пассивной покорности, мерилом земного авторитета и власти, мерилом психического миропокорения, разрешающего все и всяческие (и даже самые богопреступные) средства.
Такая церковь неизбежно обречена на внутреннее вырождение. И не в том смысле, что представляющая ее организация потерпит быстрое и радикальное крушение, а в том смысле, что она утратит свое религиозное измерение. Весьма возможно что ее земной "цемент", "цемент" духовной слепоты, душевной зависимости, привычного механизма и слепой покорности, – окажется крепкими долгим: ибо в земных делах дух "компромисса", неразборчивости в средствах, гипноза и страха бывает "прочнее", чем дух свободы и любви; апеллировать к страстям легче, чем к силам духа; искусство власти может владеть секретом новизны даже и тогда, когда утрачивает тайну глубин и верховное откровение. Поэтому вырождение этой церкви выражается не в быстром развале ее организации, построенной на гетерономной дисциплине, на фанатичной преданности и на массовом гипнозе, а в утрате ею религиозного измерения.
Она утратит молитвенную силу, которая может цвести и плодоносить только при свободном и непосредственном обращении к Богу. Она утратит цельность веры, ибо цельность достижима только для сердца и его созерцания и не достижима для воли и ума. Она утратит искренность в вере, слове и делах, ибо искренность имеет свои особые условия и свои законы, которые требуют автономии, сердечного приятия и непосредственности. Запутываясь в борьбе за власть и в земных компромиссах, такая церковь утратит волю к нравственному совершенству; а вслед за тем и волю к Совершенству вообще: она превратит добродетель в мораль, а мораль – в аптеку прощения, а волю к совершенству – в страх перед грехом; она заменит любовь – благотворительностью, служащей пропаганде, и неискренно-сентиментальной фразеологией; а совесть – сию дивную дверь к Богу – она замурует цементом своих "позволений" и компромиссов и потеряет к ней доступ. И вследствие всего этого она потеряет ту благодатную почтенность, которая присуща живой церкви. И чем более она будет иметь "влияния" в земных делах, и чем больше она будет всемерно хлопотать об упрочении и распространении этого влияния, тем меньше будет ее духовное значение в плане религиозном, тем менее ее будут уважать люди "доброй воли" и "чистого молитвенного сердца".
Дух Евангелия есть дух непосредственной религиозности и непосредственной молитвы; и утрата этого духа выражает удаление от Христа.
Гл.9. О религиозном методе
<…>
В религиозной вере таится всегда элемент исключительности и эту исключительность нельзя сводить к самоуверенности, тщеславию или духовной слепоте верующего. Смягчение этой исключительности возможно для того, кто философствует о религии, но не для того, кто объят религиозным созерцанием и исповеданием. Так, например, человек, переживающий духовное общение с личным Богом, не может признать наряду с этим, что Бог не-личен. Поэтому надо признать, что "Речи о Религии" написаны Шлейермахером не из глубокой сущности религиозного опыта, а от лица романтически-синкретической философии.
Однако эта исключительность религиозной веры, отвергающая истинность несогласных религиозных содержаний, совсем не опровергает и не должна опровергать право других людей исповедовать эти несогласные содержания. Если бы человечество усвоило первую и основную аксиому религиозного опыта, гласящую, что "искренняя вера невозможна без свободы", то оно поняло бы, что свободное и искреннее религиозное заблуждение есть все же вера, тогда как навязанное и неискреннее религиозное правоведе есть могила веры. Религиозность гибнет не от заблуждений. Истина о Боге глубока, трепетно-таинственна и претрудна; и редко кто разумел это со столь великой ясностью, как Григорий Богослов. Но именно поэтому в чистосердечном заблуждении есть искажение от беспомощности, но нет греха к погибели. В заблуждение может впасть и чистая душа – вследствие неверного строения религиозного акта; а правоверное религиозное содержание не обеспечивает человеческого акта от нечистоты и соблазна. Правоверием не следует гордиться. Иноверных не должно презирать. Неправая вера нуждается не в угрозах и не в гонении, а в углублении и очищении акта; путь к этому очищению ей должна указать правая вера с любовью и убедительностью.
<…>
Гл.11. Отверзающееся око
Тот, кто жил и наблюдал, тот, наверное, заметил, как трудно бывает нерелигиозному человеку понять жизнь религиозной души. Ему все кажется, что верующему где-то "изменяет его ум" и "трезвость суждений", что он как будто покидает "главную" и "важную" дорогу жизни, впадает в какие-то "предрассудки" и "суеверия" или включает в свой жизненный опыт такие необычные соображения, "элементы" и "факторы", для признания которых нерелигиозный человек решительно не видит никаких оснований. Что его беспокоит или прямо раздражает, это то обстоятельство, что верующий человек притязает на какое-то особое измерение, в котором он живет и познает, на какое-то не-повседневное созерцание и видение, на иной и притом лучший опыт.
Психологически это беспокойство и раздражение вполне понятны: "я не вижу, а он видит; значит мне чего-то не хватает, а он превозносится надо мной"... Это прощается нелегко; и религиозные люди всегда должны заботиться о том, чтобы не ранить других своим преимуществом. Ибо это преимущество есть не иллюзия, а действительность. Измерение, в котором они живут, есть духовное измерение; созерцание, которое им свойственно, есть сердечное созерцание духовного Предмета; иной опыт, который они в себе вынашивают, растят и берегут, есть религиозный опыт общения с Богом, т.е. с высшей и совершенной силой. Чем религиознее человек, тем увереннее он включает этот опыт в свое жизненное понимание и делание. Надо прямо признать и установить, что настоящая, подлинная религиозность, которая, собственно говоря, только и заслуживает этого именования и является для всякой незрелой и неладной "религиозности" образцом, есть состояние душевно- и духовно-цельное, есть целостная жизнь, направленная к Богу, пребывающая в Его свете и во всех своих жизненных делах, исходящая из Его созерцания.
Настоящая религиозность не только ведет в храм; и не только имеет "красный угол" в комнате и в душе. Она есть жизнь, сама жизнь, подлинная жизнь; она есть Главное в жизни, такое Главное, которое господствует в ней и ведет ее. Она есть не только "метод", восходящий и возводящий к Богу, но "метод" (т.е. путь) с Богом через жизнь. И именно потому так трудно бывает суще-религиозному человеку не беспокоить и не раздражать собой нерелигиозного или противорелигиозного безбожника: ибо безбожник почти каждым жизненным шагом своим отрицает и попирает то, что религиозный человек в каждом жизненном деянии своем любит, созерцает и осуществляет как главное. Это состояние души, выражаемое словами "религиозная цельность", надо представить себе вживе и въяве. <…>
Гл.12. О РЕЛИГИОЗНОМ СОМНЕНИИ
Существует весьма распространенное воззрение, согласно которому религиозный человек – верует и не сомневается, если же он начинает сомневаться, то это означает, что вера его колеблется, распадается и утрачивается. Это воззрение характерно для эпохи религиозного упадка, когда человек воспринимает свою веру, как нечто от него самого независящее, как бы "спорхнувшее" на него из высшего пространства и способное также легко упорхнуть, как легко оно прилетело. Вера есть что-то вроде прелестной бабочки, которую стоит только спугнуть, чтобы она безвозвратно улетела. А сомнение есть именно такая спугивающая сила...
Такое понимание свидетельствует о том, что человек воспринимает свою религиозную веру, как некое неуловимое, капризное настроение: оно появляется неизвестно откуда и исчезает неизвестно почему. Оно относится к безличным "состояниям" души: "мне хочется", "мне думается", "мне кажется", "мне поется", "мне тоскливо". И вот так же: "мне веруется", "мне не веруется". Такие состояния можно "иметь", когда они "приходят", а приходят они сами по себе; когда же они "исчезают", "улетучиваются", тогда остается только сказать, что "их больше нет". Любилось и разлюбилось; "верилось", а теперь больше "не верится". А так как спокойнее и легче жить, когда "верится", то сомнения "надо гнать"...
В такой постановке вопроса есть много обывательской беспомощности, – правда, трогательной (ибо пытающейся оберечь свою "святыню"...), но в то же время наивной и обреченной. Наивной – потому, что человек говорит о вере и религии, не имея никакого представления о том, что такое религиозный опыт, как он добывается, строится и удостоверяется. Обреченной – потому, что религиозная вера не может прозябать в виде тепличного растения: она требует духовного простора, воздуха и свободы, она есть по призванию своему высшая жизненная сила, светящая и ведущая. Вера есть кормчий в буре; как может она прозябать в теплице? Она есть источник жизненного бесстрашия; как может она трепетать от каждого сомнения? Она составляет глубочайший корень личной жизни; как же может она уподобиться случайно севшей и легко спугиваемой бабочке?
Современный мир пронизан сквозняком безбожия. Этот сквозняк несет с собой весь яд духовного "анчара", – все соблазны плоского чувственного опыта, рассудочной "диалектики", технической полунауки, омертвевшего сердца, развращенного воображения, деморализованной воли, кощунственных дерзаний, воинствующей пошлости, озлобленного властолюбия, неистовых страстей и малодушного предательства. Противостать этому может только вера, нашедшая свои первоосновы, утвердившаяся в них, очистившаяся от соблазнов, закаленная в религиозном опыте, искусившаяся в видении и сомнении, в приятии и в отвержении; вера, знающая верный путь, опасные перепутья и последнюю распутицу; вера, выросшая в бурное время и потому умеющая повелевать бурям души. Время религиозного упадка ныне прошло: религиозность будет могучей, цельной и побеждающей, или же ее не будет вовсе, и тогда не будет на земле ни духа, ни культуры.
Религиозное сомнение само по себе не есть "соблазн" и совсем не предвещает "конца религии". Его "приход" опасен только для беспочвенной и беспомощной "религии настроений": "спугнутая бабочка" вспорхнет и улетит навсегда... На самом же деле приход религиозного сомнения означает, что пора "невинных" детских снов прошла; что религиозность, сводящаяся к капризной случайности настроений, есть мнимая религиозность; что духовная сила не родится из беспомощности; что пришла пора начинать свое "радиальное" движение к Богу.
Сомнение отделяет религиозное "детство" и, может быть, религиозное "отрочество" от зрелой поры, от веры мужественной, крепкой и окончательной. Оно не "соблазн", а "горнило"; не "конец религии", а обновление и углубление. "Отмахиваться" от него значит нарочно длить свою детскую беспомощность, т.е. умалять силу веры и победу религии. Сомнение же, наподобие "природы": гонимое в дверь, влетает в окно. Чтобы его преодолеть, надо в нем "побывать"; не преодолевший его сохраняет уязвимые места своей религиозности, которые могут раскрыться в труднейший час жизни и привести его к духовному крушению. И пока он не преодолеет их, он не может помочь другому в их преодолении; ибо учить и вести в вопросах веры может только мастер истинного, религиозно-предметного, творческого сомнения. <…>
Религиозное сомнение есть состояние автономного опыта; у гетерономно-верующего не может быть сомнений: вместо него и за него будет сомневаться его "авторитет". Именно поэтому появление в душе религиозного сомнения означает нередко начало автономного религиозного опыта. Дело в том, что религиозное сомнение разрешимо только через опыт, сосредоточенно и благоговейно направленный на религиозный Предмет ("предметная интенция"); оно успокаивается только от непосредственного и подлинного созерцающего удостоверения. Душа человека, раз почувствовавшая и осознавшая, что ей необходимо для веры и для окончательного религиозного самовложения – объективное основание, начинает опасную борьбу за такое основание и может получить его только сама и от самого Предмета.
Откровение дается человеку именно для угашения его религиозного сомнения. И напрасно Апостола Фому называют "неверным" или "неверующим": стоя перед лицом неслыханного, невероятного, почти непредставимого события, он искал предметного удостоверения и не встретил отказа, но, удостоверившись, воскликнул: "Господь мой и Бог мой!" (Иоан. XX. 26-28). "Увидеть" (т.е. осязать раны Христа) дано было только Апостолам; другие же должны удостоверяться нечувственным, духовным опытом, и, по слову Христа, они удостоверения. Но погасить сомнение без откровения человеку не дано в земной жизни, а строить религиозный опыт и религию на безответственном легковерии – значит "строить дом на песке" (Мтф. VII, 26-27).
И вот, когда человек начинает в своем опыте борьбу за религиозное удостоверение, то он имеет тем больше надежды на успех, чем интенсивнее, чем глубже, чем подлиннее и искреннее его сомнение. Тогда оно становится зовом, исканием, просьбой, молитвой. Он "просит" и ему "дается"; он "ищет" и "находит"; он "стучит" и ему "отворяют" (Мтф. VII, 7-8). Настоящее религиозное сомнение есть, прежде всего, интенсивная и подлинная жажда узреть Бога. Душа, так сомневающаяся, не может быть ни безразличной, ни пассивной: самое сомнение ее есть живая сосредоточенность на Предмете и направленность в Его сторону; это есть разновидность предметной воли, это есть интенциональное состояние религиозного опыта. Это сомнение деятельно, настойчиво; оно в тревоге и напряжении; ему важно, ему необходимо разрешиться в положительную или в отрицательную сторону.
Вот почему религиозное сомнение не сводится к "сознаванию" или "пониманию" религиозной проблемы, к "исследованию" или "анализу". Самый утонченный философский аналитик или "конструктор" может оказаться бесплодным в созерцании и ведении. Кто сомневается в религиозной области, тот, правда, поглощен "проблемой", и можно сказать, что он носит в себе "опыт проблемы"; но к этому необходимо добавить нечто гораздо большее: этот "опыт проблемы" должен стать для него центральным содержанием сердца, созерцания и воли.
Оказывается, что настоящее сомнение в религиозной сфере религиозно не только по содержанию и по предмету, но и по характеру самого акта: по своей силе и остроте, по подлинности, по интенсивности и цельности. Воля к предмето-видению захватывает душу человека до глубины, и она оказывается одержимой религиозным Предметом, как еще проблематическим содержанием. Это отнюдь не парадокс, не игра словами и не преувеличение. Настоящее религиозное сомнение есть как бы огонь, снедающий душу и образующий в ней живое и подлинное средоточие, сердцевину бытия. <…>
Образно выражаясь, можно было бы сказать: настоящее религиозное сомнение есть состояние огненное, подобное "неопалимой купине"; и огонь этого сомнения призван дать человеку первый луч очевидности, падающий в отверзтое око его духа и пронизывающий его душу до дна.
Философски выражаясь, следует сказать: есть сила религиозного сомнения, скрывающая в себе благодатную, божественно-сильную и божественно-благотворную волю к Боговосприятию. Пережить сомнение о Боге, полное религиозной жажды и воли, значит пережить очевидный опыт Божьего действия и проявления, а следовательно и Божьего бытия.
Иными словам: кто истинно сомневается в бытии Божием, тот уже имеет Бога в самом акте своего сомнения. Ибо истинно-религиозное сомнение есть уже начавшийся опыт религиозной очевидности. <…>
Гл. 16. Огни личной жизни
Существует весьма распространенное воззрение, согласно которому религиозность есть нечто вполне "личное", "интимное", имеющее отношение только к тому, кто верует: она отвечает его личной душевной "потребности" в "настроении", в жизненном "устроении" и "спокойствии" (тихая лампадка в интимном углу, чтобы было не так страшно спать и грешить... и никого это не касается"...). При таком воззрении религия превращается в бытовой аксессуар повседневной жизни.
Этому пониманию противостоит другое, в силу которого религиозный опыт вызывает у верующего человека чувство живой и сильной духовной ответственности. Веровать значит ведать истину о Боге; значит иметь настоящий доступ к Божественному и стоять с ним в живом духовном общении. Не истина от веры ("мне в это верится, должно быть это и есть истина"); а вера от истины ("вижу, что это сама истина, и потому не могу не веровать"). То, что религиозный человек приемлет верой и исповедует, есть для него не условное допущение, не "вероятность" и не "правдо-подобная гипотеза", – но сама сущая правда, приемлемая силой безусловного и окончательного утверждения. Как бы ни был скромен и непритязателен сам верующий, это остается делом его личной души и личного характера; природа же его верования сохраняет свое окончательное и категорическое значение, а значение самого веруемого содержания остается объективным и всеобщим. Если я утверждаю религиозную истину, то все, несогласные со мной, пребывают в религиозном заблуждении. Как бы смиренно и благодушно я не произносил эти формулы, – я не могу не произнести их, ибо они заложены в самом религиозном веровании, владеющем мной. А в этом есть великое и ответственное притязание. И когда смирение и благодушие покидают верующего, то он всегда может впасть в религиозную нетерпимость и воинственность, что мы и видим в истории человечества.
Иметь религию есть великое притязание и великая ответственность, сколь бы мало ни думал об этом легкомысленный и беспечный человек. Выбор и предпочтение одной веры есть тем самым суд над другими верами и осуждение их. И если этот выбор и этот суд не вырастают из чувства величайшей ответственности и из соответствующего ей духовного делания ("метод, ведущий к Предмету"), то они могут оказаться в действительности жалкой претензией и великой дерзостью.
Религиозная вера есть притязание: она притязает на владение религиозной истиной. Это притязание обязывает; оно обязывает еще более, чем всякое другое притязание.
Оно обязывает, прежде всего, перед самим собой. Ибо религиозным верованием человек определяет всю свою жизнь: свою жизненную цель, свой характер, свое творчество, всю свою судьбу, а в конечном счете свое религиозное спасение или же свою погибель. Упустить, исказить, продешевить и опошлить все это – значит поистине пренебречь самим собой и утратить себя.
Религиозное верование обязывает человека в особенности перед Богом. Ибо небрежное, беспечное или безразличное отношение к доступному мне Реальному Совершенству, – к Богу, источнику спасения, любви и благодати, – равносильно отказу от Него и ведет к утрате Его и к оскудению человеческой жизни и культуры. Человек отвечает за то, во что он верует. Если он не ищет Откровения, то чего же он ищет в жизни? Если он не приемлет открывающегося ему Бога, то он приемлет другое, богочуждое или богопротивное. Отвергая Бога, он становится противником Его; не радея о верности своей веры, он становится сознательным или бессознательным исказителем Откровения. Верование не может быть делом произвольного выбора; а раз принятое сердцем, оно требует верной жизни и верных дел. Вот почему верующий отвечает перед Богом за то, во что он верует сердцем, что исповедует устами и что осуществляет делами; он отвечает за свои религиозно противопредметные страсти, за смуту своего легкомыслия, за соблазн своих писаний, за вздорность своих мнимо-религиозных выдумок. И, может быть, никто не ощущал этой ответственности с такой силой и остротой, как Григорий Богослов (Назианзин) с его учением о религиозном младенчестве толпы.
Понятно, что религиозное верование возлагает на человека ответственность и перед всеми остальными людьми. Человеку от природы дана способность таиться от других людей, притворяться и обманывать; религиозное же верование не терпит ни притворства, ни обмана. Человек отвечает за подлинность и искренность своего верования перед всеми другими людьми. Но отвечает перед ними и за предметную основательность своей веры. В сфере духовного опыта необходима особая "честность", особое тщание, ибо взаимная проверка здесь не всегда возможна и человек слишком часто обречен здесь на одинокое предстояние. Всякое речение: "я вижу так", "я верую в то-то", или "в сфере Божией обстоит вот как" – возлагает на человека великую ответственность за реченное: ибо если он исповедует то, чего не видит, то он произносит мертвые слова и мертвит веру в других; если он учит религиозной неправде, то он соблазняет других и разрушает в них религиозное доверие к религиозному опыту вообще; его безответственная неправда засоряет объем религиозных содержаний.
Преступно заполнять столь утонченно-сложную и трудно-удостоверяемую сферу духа легкомысленными или произвольными, или симулирующими изъявлениями, разочаровывающими людей и разрушающими их взаимное религиозное доверие друг к другу. Безответственный или недобросовестный религиозный проповедник разрушает духовную жизнь на земле – и личную, и общественно-церковную, а в конечном счете и национально-государственную.
В религии безответственная болтовня разрушительна и преступна. Лучше честный агностицизм, лучше скромно-аскетический скептицизм, чем соблазн беспочвенного и нечистого пустословия.
Вот почему всякое верование, а тем более всякое религиозное исповедание обязывает. Оно предполагает, что человек осуществил все возможные усилия в религиозном созерцании Предмета; что он осознал ответственность своего "верую и исповедую"; что он учел все соблазны, идущие от личных, нечистых страстей и ведущие к легковерию, всуеверию и пустоверию; что он искал оснований и корней и стремился удостоверять свою веру; что он не боялся пройти через горнило религиозного сомнения.
Именно чувство религиозной ответственности приводит человека к религиозному сомнению. Но не к сомнению религиозного безразличия, мертвящему и разрушающему, а к сомнению взыскующему, очищающему и удостоверяющему. <…>
Сомнение есть жажда удостоверения. Но в религии удостоверяет не "чувственное восприятие" и не рассудок, не "логика" и не "доктрина". В религии удостоверяет духовный опыт, опыт сердца, сердечное созерцание, восприятие личным духом. "Разум" участвует в этом, но совсем не в виде "рассуждающего мышления", а в видеопыта достаточного основанияи в виде переживаниядуховной очевидности. И "воля" участвует в этом, но не в виде насилия над собой, побуждающего верить в безразумное и противоразумное ("Credo quia absurdum"), а в виде усилия, сосредоточивающего душу, организующего энергию созерцания и предоставляющего последнее слово – духовной очевидности.
Сомнение есть дело разума и воли. Но разрешение сомнения есть дело сердца и созерцания. Разум и воля организуют душу в обращении к Богу; сердце и созерцание суть органы, воспринимающие божественное свето-откровение. Разум и воля призваны к тому, чтобы создать в душе духовную чистоту, непредрешающее бесстрастие, сосредоточенную восприимчивость и отзывчивость, "ранимость" душевно-духовной ткани, зоркость сердечного видения. Но осуществляют акт религиозной очевидности не они, а сердце и созерцание. <…>
Этого можно достигнуть только при том условии, если сомневающийся человек имеет "дерзновение" самостоятельно обратиться к Богу и непосредственно простереть к Нему просящие длани своего духа. Религиозное сомнение должно быть достаточно сильно, потребность сердца в Боге должна быть достаточно остра для того, чтобы в душе созрела такая способность, решимость и готовность. Для этого в духе должен отпасть троякий страх.
Во-первых, страх перед другими людьми, кто бы они ни были представители власти, обличающие, запрещающие, грозящие, отлучающие, "исключающие" или сожигающие ("comburi"). И для того, чтобы преодолеть этот страх, нередко укрывающийся в оттенках, человеку рекомендуется погасить в себе всякое религиозное тщеславие и пророческое притязание: искать религиозного восприятия про себя и для самого себя, и отнюдь не превращать найденную религиозную истину в учение. Если под "ересью" разуметь то, что таит в себе первоначальный смысл этого греческого слова ("άίρησισ"), т.е. "поятие", или самостоятельное восприятие Божества, то человеку от самой природы его духа принадлежит "естественное право на ересь" и только притязательное, незрелое, немудрое, неосновательное и заносчивое превращение этого лично-свободного Боговосприятия в безответственное провозглашение и в публичное учение может сделать это право спорным или даже непризнаваемым.
Во-вторых, – страх перед Богом. Я разумею при этом не "страх" как благоговение, не "страх" как смирение, не "страх" как чувство собственного недостоинства, ведущее к заботе о своем религиозном очищении, – такой страх не удаляет от Бога, а приближает к Нему, а "страх", испытываемый перед злым страшилищем, мешающий целостной любви к Богу, воспрещающий непосредственное обращение к Нему, внушающий душе идею "греховности" или даже "гибельности" самостоятельного обращения сына к Отцу. Такой страх пресекает религиозное искание, ослабляет молитву, мешает строительству религиозного опыта и делает сомнение бесплодным.
В-третьих – страх за себя. В известном смысле этот страх духовно-естественен и необходим. Ибо нет ничего противнее в сфере религиозного опыта, как развязная самоуверенность, как грубый и пошлый аутизм, как соблазнительная болтовня скороспелых и неопрятных дилетантов: они нисколько не боятся за себя, но они, – что гораздо важнее, – "не боятся Бога" и "не стыдятся людей". Вот почему "страх за себя" является, в некотором смысле, одним из первоусловий подлинного религиозного сомнения и опыта. Но этот страх не должен гасить в человеческой душе уверенности в том, что откровение угодно Богу и благодатно для человека; что Господь "близ стоит при дверех"; что человеку естественно и совершенно не запретно обращать к Нему свой вздох, свой зов и свой взор; что никто не вправе запрещать человеку непосредственную молитву к Богу – и что не следует ему в этом бояться за себя.
Наконец, сомнение будет продуктивно только тоща, если человек не только "вздыхает" и "жаждет", но и "делает", т.е. активно и неутомимо строит свой религиозный опыт. Мало одной воли к предметности, к истине и непосредственности Бого-восприятия; необходимо очищение души, строительство духа и "стучание у врат".
Душа человека имеет свои земные завесы, которые заслоняют ее духовный взор и мешают ей видеть Бога. Она должна раздвигать эти завесы своего земного естества; она должна как бы "протирать свои очки", на которых оседает земная пыль, копоть и всякая нечистота. Она должна заботиться о чистоте своей душевно-духовной "среды", которая воспринимает лучи Божьего солнца.1Многие не видят Бога потому, что око их не духовно и не чисто.
Человек должен трудиться над свободой и собранностью своего духа. Расщепленный, несобранный дух теряет свое внимание (силу "внутри имания"); он не интенсивен и бессилен. Он рассеян по земному множеству. Он скитается по периферии души и питается поверхностью вещей.
Ищущий человек находит искомую вещь тем легче и тем скорее, чем живее он представляет ее себе памятью и воображением. Именно поэтому ищущий Бога (сомневающийся!) должен помнить Его, представлять себе вживе и въяве совершенство Реального и реальность Совершенства. Он должен обращаться к Богу, открывать Ему свое око, вопрошать Его своим сомневающимся сердцем о Его бытии и свойствах. Одним словом: его духовная бдительность должна стать действительным бдением о Боге. И сомнение его разрешится.
Но он должен с самого начала помнить о тех логических искушениях, которые ждут его на пути. Так, нельзя заключать от "не вижу" к "не могу видеть" (a non esse ad non posse) или к "не увижу никогда" (a praesente ad futurum). Нельзя превращать частно-отрицательное суждение: "я не вижу" – в обще-отрицательное "никто не видит". Нельзя делать из признания своей или общей познавательной немощи: "я не вижу Бога", "мы не воспринимаем Бога" – экзистенциальный вывод: "значит Бога нет". Верная постановка вопроса совсем иная: "еще не вижу – но увижу"; "я не воспринимаю – но другие, может быть, воспринимают"; ибо "есть многое на свете, чего не снилось и нашим мудрецам" (Шекспир). <…>
Итак, религиозное сомнение есть путь предметного удостоверения. Религиозность, не нуждающаяся в этом удостоверении, есть религиозность мертвая и слепая: она живет не от Бога, а от людей, которым подражает и которым (страшно сказать!) доверяет больше, чем Богу. Это есть "вера" легковерная, гетерономная и опосредствованная. Она не знает религиозной очевидности, именно поэтому она способна становиться страстной и буйной, доходя до неистовства и до гонений. Ибо, не имея очевидности, она не имеет и истинной уверенности, и потому лишена тишины созерцания и покоя истины.
Напротив, вера, прошедшая через религиозное сомнение, приобретает крепость несомненности после сомнения: она становится насыщенной удостоверением и приобщается к религиозному покою и религиозному равновесию достигшего духа. Такая вера не страшится ни слова, ни спора, ни критики, ни упрека в "субъективизме, ибо она, пройдя путь предметного искания и нахождения, искусилась я в опыте ив "методе". И потому она встречает критику спокойным и благожелательным предложением: "Испытуем же Предмет еще раз совместно! Смотри духовным оком из живой любви – и увидишь Бога! " <…>
Каждый из нас призван к свободе: он должен превратить свой земной путь в непрерывное духовное очищение, с тем чтобы сделать свой дух главно-определяющим фактором и свободным двигателем личной жизни. Ибо свобода не дана человеку, как абсолютная независимость ото всего, но задана ему как все возрастающая независимость от зла и пошлости.
Согласно этому жизнь человека может и должна стать постоянным и прогрессивным самоосвобождением. Это самоосвобождение состоит в том, что человек собирает энергию своей любви, своего созерцания и своей воли, укрепляет ее и присоединяет ее, как внутреннюю силу, к своим духовно-религиозным избраниям и предпочтениям, и к своим совестным и благородным влечениям, решениям и деяниям. Этим человек освобождает себя. Он освобождает себя не от всех и всяких "потребностей", "влияний", "традиций", "влечений" и т.д., а только от пошлых и злых. Он добивается свободы, не в смысле полной "неопределенности", полной "пустоты", полного "произвола"; да и зачем ему понадобилось бы это систематическое обессиление или убивание в себе всех излучений и веяний Царства Божия?! Он добивается свободы для своей личной духовной силы, составляющей самое священное ядро его бытия, чтобы она была способна в любой момент жизни "осилить" или "пересилить" "черные лучи" мрака, веяния злобы, соблазны зла и мутные воды житейской подлости и пошлости. Каждый шаг этого укрепления личной духовной силы есть шаг к самоосвобождению и свободе, или, что то же, к религиозному очищению, а это значит шаг, приближающий к Богу. Поэтому истинная свобода человека состоит – в естественной легкости его Духа, в силе его доброты и совестности, в целостной радости Божественному. <…>
Духовно слепой человек, "просыпаясь" к сознательной жизни "взрослого", видит себя детищем таких-то родителей, членом такой-то семьи, принадлежащим к такому-то государству и сословию, к такой-то профессии, бедным или богатым, здоровым или больным, одаренным или бездарным, умным или глупым, образованным или полуобразованным, в таком-то жилище, с таким-то знакомством и природо-окружением, с такими-то исторически обусловленными или "чисто случайными" событиями и впечатлениями жизни. Все это ему "дается", все это на него "изливается", "влечет" его с собой или за собой, открывает перед ним известные житейские пути и возможности.
Из всего этого "слагается" "кривая" его жизни – если он человек со слабой волей; из всего этого он сам "лепит" и "формирует" свою жизнь – если он человек с сильной волей. И вот, – религиозно говоря, за всем этим скрываются те жизненные "огни", которые он должен усмотреть, принять и усвоить, чтобы, укрепляясь ими, осуществить свой жизненный катарсис.
Дело в том, что каждое из этих данных "обстоятельств" и "событий" таит в себе свой внутренний смысл, – свое бремя, свою духовную проблематику, свое задание, а может быть, и свою боль, свое страдание, свое искушение, свой соблазн, свою опасность, свое крушение, но, что всего важнее, – свой зов, свое умудрение и свое приближение к Богу. Нет "безразличных", т.е. духовно пустых или мертвых обстоятельств; нет, по слову Пушкина, "напрасных и случайных даров" жизни; нет – "праздных" событий. Все в жизни "говорит", "зовет" и "учит"; все подает знак, все знаменует о более глубоком и более высоком; все значительно. "Нет на земле ничтожного мгновения" (Баратынский). И вот, искусство жизни, очищения, роста и умудрения состоит в умении "расшифровывать" все эти, посылаемые каждому из нас, Божии иероглифы и созерцать их верный и чудный смысл; и не только созерцать, но усваивать его мудрость, – постигая каждое событие и явление своей жизни, как личное обращение Бога к человеку, и постигнув так эту мудрость, включать ее в свой характер, в свой дух, в свой акт, в свое сердце, в свою волю, в свою молитву. Тогда все начинает давать человеку свой сокровенный "свет" и "огонь"; и внутренний "огонь" человека усиливается от этого и становится определяющим, ведущим, главным и все охватывающим. Жизнь становится духовным возрастанием и очищением; и огни ее ведут человека к Богу.
Гл. 17. Дары Церкви
<…>
Исходное обращение к религиозно-многомощному учителю или пророку оказывается только началом, или как бы первым уроком, или актом первопрозрения; человек узнает не просто пророка, а Бога через пророка: он видит Бога в душе пророка и преклоняется перед пророком, как носителем и истолкователем Божества, – и при том, для того и с тем, чтобы, воспроизводя новый акт, научиться видеть Бога самостоятельно. В этом уже дано – не только начало религиозно-церковной иерархии, но и основное задание этой иерархии: воспитывать в своей "пастве" самостоятельное и непосредственное Богосозерцание.
Начало духовно-верной иерархии заложено во всякой религии и строит всякую церковь: религиозная община, отметающая это начало ("всякий верующий – сам себе священник"), – или незаметно восстановит его (как у "православных" "беспоповцев") или разложится в хаосе и деморализации. Люди не равны – ни в чистоте своих душ, ни в Богосозерцании и Богоузрении, ни в силе молитвы, ни в религиозной мудрости, ни в дарах Благодати, как передаваемых церковно-преемственно (каноническое рукоположение, сообщающее "право" на таинство, на учение и на суд), так и воспринимаемых свыше ("харизмы"). Люди не равны во всем этом; и ранг их возводится обычно к основателю церкви и через него к воруемому Божеству. Драгоценно, чтобы осуществлялось именно это обращение к самому Божеству: чтобы душа учителя и пророка не заслоняла Бога и не уводила от Него; напротив, чтобы она открывала Его и вела к Нему. Ибо тогда только Откровение не заменяется "прикровением" и человек обретает непосредственный путь к Богу. Душевно-духовная "среда" учителя и основоположника должна давать ищущему подлинное восприятие Богобытия и Богоприсутствия, непомраченный и неискаженный опыт Божества. А это возможно воистину только в том случае, если учитель и основоположник религии – сам божествен. И вот, то, чего в тайне и бессознательно искало человечество, было осуществлено Христом, Сыном Божиим. <…>
Огромное большинство людей почти неспособно к отрешенному нечувственному созерцанию, которое дается лишь избранным натурам и требует долгого упражнения и особой душевно-духовной дифференциации; большинство людей нуждается в чувственном воображении и изображении для того, чтобы хотя через него узреть нечувственное. – Это дело насильственное потому, что запрещение скульптурных и живописных изображений в религии остается внешней "отменой", нисколько не считающейся с религиозной способностью и потребностью человека: новый отрешенный религиозный акт нельзя предписывать и навязывать, как это пытались сделать императоры-иконоборцы во главе с Львом Исавром и Карлом Великим. – Это дело опустошительное потому, что отказ от чувственного воображения в религии сразу – нарушает жизненную цельность религиозного акта и лишает религиозное чувство всего того богатства, всей той художественной глубины и всей той духовной выразительности, которые присущи подлинному искусству. <…>
Когда человек вешает у себя в комнате портрет своей покойной матери или отсутствующего друга, то, взирая на него, он отнюдь не принимает изображение дорогого человека за самого почившего или отсутствующего. И тем не менее он вешает портрет этот на видном и почетном месте, чтобы созерцать сквозь условно похожие и несовершенно передающие черты – то душевно-духовное существо, которому он предан сердцем. Это делают почти все люди и никто из них не считает себя "портретообожателем" или "идолопоклонником".
Икона есть зримое напоминание о Боге и призыв к Нему, а не сам Бог; поэтому давно пора перестать говорить ветхо-заветные слова о "кумире" и "всяком подобии". Она есть, подобно храму, как бы "дверь Божия", в которой не следует останавливаться, но через которую следует войти в "пространство духовной молитвы". Икона не заменяет и не замещает Божественного Предмета, но образно символизирует Его, даруя человеку восприятие "отсутствующего" и незримого, но как бы присутствующего и видимого: чувственное взирание вызывает в душе сердечное созерцание, и дух пробуждается к вниманию и молитве. <…>
Невозможно сомневаться в том, что Христос вел со своими учениками негласные, а может быть, и прямо тайные беседы, наподобие Его беседы с Никодимом. Невозможно также сомневаться в том, что канонические евангелия сохранили нам не все, что желала бы воспринять о Христе душа верующего христианина. Есть ряд "апокрифических" евангелий; и тот, кто читал их, может только изумляться тому безошибочному отбору, который был проведен Церковью при составлении новозаветного канона: до такой степени в этих "евангелиях" проявляется чуждый дух, дух человеческого любопытства, словоохотливой выдумки и снижения высших мерил, в отличие от духоносного и живоносного характера канонических Евангелий. Есть еще сборники "Логий", т.е. отдельных изречений, приписываемых Христу. Однако наряду с этим Церковь хранит еще изустное предание, о необходимости которого высказался с такой убедительной силой и глубиной Василий Великий (О Святом Духе, гл. 27). Это Предание не следует смешивать с бесчисленными, нередко наивными, фантастическими и по духу нехристианскими "легендами" позднейшего происхождения.
Церковное Предание обычно не "повествует", а дает указания о совершении молитв, обрядов и таинств и об их сокровенном смысле. Отвергнуть это все рассудком, оторванным от сердечного созерцания, значит порвать те драгоценные, живые нити, которые связывают нас с Апостолами и приближают нас к эзотерии Христа. Принимать же это наследие следует из плеромы сердечного созерцания.
Это требование относится с еще большей силой к Догмату.
Надо знать, что далеко не все религии, известные нам из истории человечества, имели свои зрело завершенные догматы. Религиозность Индии прямо уклонялась от догматики. О догматах Пали-Буддизма трудно даже и говорить. Мудрая практическая философия Конфуция и Лао-Цзы воспитывала человека, а не раскрывала ему истинного ведения о Боге. В Пятикнижии Моисея насчитывается до 613 заповедей к соблюдению, но "символа веры" в нем не найти. Греки, римляне и позднейшие культы Ближнего Востока жили мифом, а не догматом. Таким образом христианский Символ Веры является вряд ли не первым догматом в истории религий.
Верующий христианин, воспринимая от своей Церкви такой догмат, раскрывающий ему истину о Боге и тем самым высший смысл общечеловеческой и личной жизни, получает сразу великое облегчение, но и бремя чрезвычайной ответственности. Облегчение состоит в том, что ему дается зрелый плод долгого и целостного религиозного опыта, воспринявшего Откровение из первоисточника и молитвенно претворившего его "о Духе" в сердечно-продуманное и формулированное "учение". Он получает из чистого и авторитетного источника то "благое научение", которое призвано стать как бы "духовным кристаллом" его собственного автономного религиозного опыта. Но именно это и возлагает на него высокую религиозную ответственность. <…>
Напрасно люди думают и говорят, будто Символ Веры, сформулированный Церковью шестнадцать веков тому назад, изжил свое время и устранен развитием научной культуры. Они пытаются этим "объективировать" в истории духовную инородность и несостоятельность своего собственного акта, как бы "узаконяя" свою неспособность к духо-сердечному созерцанию. "Грозя" никейскому Символу Веры от лица рассудочной науки, они не понимают или забывают основное, именно, что рассудок совершенно некомпетентен в делах религиозного опыта и что ему нечего сказать в той сфере, которая раскрывается только инородному (гетерогенному) акту. "Наука", которая не понимает своих предметных и актовых пределов, забывает обязательный для нее аскез силы суждения и вторгается в недоступные ей сферы, – есть уже не наука, а "полу-наука", со всей ее слепотой и зловредностью.
Акт, наблюдающий внешние явления, удостоверяющий их и обобщающий их черты, желающий все взвесить и смерить, некомпетентен в сфере духовного опыта; и суждения его безответственны и неинтересны. Догмат дается Церковью, как основа религии, а религия не есть наблюдение внешних явлений и есть не просто умственное "воззрение", а самый огонь жизни. Так называемое "христианское" человечество еще не жило в духе и в смысле христианского Символа Веры, и пути эти для него еще открыты. – Таков внутренний смысл догмата. <…>
Поистине, нет лучшего религиозного научения, нет более действительного проповеднического служения, как сила и искренность личной молитвы. Вера крепнет и распространяется не от логических аргументов и не от усилий самонасилующейся воли, и не от повторения слов и формул, но от живого восприятия Бога, от молитвенного огня, от очищения сердца, его подъема и просветления, от живого созерцания, от реального посещения Благодатию. Если священник способен искренно и беззаветно молиться сердцем и действительно молится так в своем уединении, то его церковная молитва будет зажигать, очищать и просветлять сердца его прихожан. Это пламя одинокой молитвы будет гореть и в его церковном богослужении, и в его проповеди, и в его жизненных делах. И прихожане его сразу почувствуют сердцем, что "Сам Дух" молится в нем "воздыханиями неизреченными" (Римл. 8. 26) и что эти воздыхания передаются и им по неизреченным путям.
Пастырь, коему присуща эта искренность и сила молитвы, является как бы "неопалимой купиной" в своем приходе: прихожане его, иногда сами того не замечая и не разумея, становятся соучастниками его молитвы; им передается теплота его веры; они приобщаются его духовному полету. И поучения его воспринимаются по-особому; не только умом, а и сердцем, живой совестью и воспрянувшей волей. Его беседы проникнуты творческим духовным опытом, живым религиозным созерцанием; они идут от сердца и воспринимаются всей душой. И даже простая встреча с ним испытывается как утешение и безмолвное ободрение. Таков был Василий Великий.
В основе всего этого лежит некий религиозный закон, согласно которому глубина веры растет и крепнет в молитве, ибо молитва есть благодатное вознесение души к Богу, озаряющее, удостоверяющее и очищающее. Вот почему пастырь призван быть живым источником и живой школой молитвы.
Второе, что пастырь несет своим прихожанам в качестве дара от лица Церкви, есть живое, любящее сердце. Лучшее христианское миссионерство есть то, которое проистекает из подлинной доброты и сердечного понимания. Пока человеческое чувство сохнет и гаснет в умственно-отвлеченных богословских построениях, пока ум холодно рассуждает и выносит приговоры, враждует в прениях и каменеет в ненависти, до тех пор человеку остается недоступным откровение Христа. Бессердечные люди не постигают в Евангелии самого главного; а если поймут, то не заживут им и не осуществят его. Черствая жадность делает человека слепым и глухим. "Реки воды живой" (Иоанна 7. 38) текут только у любящих людей: ибо любовь отверзает сердце человека – и для Христова откровения, и для жизни и страдания других людей.
Если священник имеет эту любовь, то она чувствуется и воспринимается и в его церковной молитве, слышится и в его проповеди, обнаруживается и в его делах. Кто беседует с ним или помогает ему, у того возникает особое ощущение: он чувствует, что воспринял от своего духовника нечто драгоценное, жизненно существенное и ободряющее, что он испытал свет и теплоту сердечного огня, что он почувствовал живую доброту, что он приблизился к тому, что разумел Христос, когда говорил о любви. Ибо живое сердце имеет запас доброты для всех: утешение для горюющего, помощь для нуждающегося, свет для беспомощного, живое слово для всякого, добрую улыбку для цветов и для птичек. Простое обхождение с таким человеком становится незаметно живой школой сердечного участия, любовного такта, христианской мудрости. И все это прекрасно и благодатно, ибо истинный духовник есть носитель христианского духа, духа любви и сердечного созерцания. Таков был Серафим Саровский.
И вот, третье, к чему приводит христианский пастырь и что нам дарит через него Церковь – есть свободная и творческая совесть. Эта совесть должна жить в нем, как самостоятельная и независимая сила, как критериальная мера добра и зла, мера, по которой светские люди могли бы проверять, выправлять и крепить свою собственную совесть.
Там, где мы беспомощно сомневаемся и колеблемся, он, как мастер совести, должен видеть ясно и глубоко; где мы блуждаем и заблуждаемся, он должен знать и указывать нам прямую дорогу; где мы вопрошаем, он должен иметь ответ. Он должен поддерживать нас в искушениях и соблазнах; он должен быть нашей опорой в колебаниях и изнеможении. Он должен сразу прозревать, где есть нечестность, неискренность, измена, интрига; и при этом – хранить справедливость в суде и в осуждении. Ибо совестный христианин не преувеличивает ни в утверждении, ни в отрицании. Его суждение исходит из предметного видящего смирения, но произносится с мужеством и силой, ибо не он только произносит его, но предметный огонь в нем. Сколь прекрасен искренний и откровенный исповедник ничем и ни в чем неподкупный, бесстрашный пред сильными и свободный от честолюбия и властолюбия! Сколь драгоценен такой очаг христианской совести, с чистым пламенем и кротким светом! Таков был Иоанн Златоуст.
Понятно, что священство и старчество такого православного уклада является одним из драгоценнейших даров Церкви. Издревле монахи и священнослужители, жившие сердечным созерцанием и посвящавшие себя сверх этого и духовному аскезу, входили в тот "собор христианской праведности", который Церковь берегла и завещала последующим поколениям. Еще Василий Великий призывал: "желай лучше узнать жизнь праведных" (Письма. 39) и советовал "всматриваться в жития святых, как бы в движущиеся и действующие какие изваяния" (Письма. 2). И если вспомнить, что вчувствование в совершенство есть один из лучших путей для душевного очищения, то и этот дар Церкви предстанет нам во всем своем значении.
Весь этот путь должен естественно привести человека к религиозной цельности и религиозной искренности.
Каждый человек имеет неотъемлемое право свободно обращаться к Богу, искать боговосприятия, осуществлять его, прилепляться к Богу сердцем, помыслами, волей и делами и определять свою жизнь этим обращением. Это есть естественное право – ибо в нем выражается природа и сущность духа; это есть безусловное право – ибо оно не угасает ни при каких условиях; оно неотъемлемо – ибо дано Богом и ненарушимо для человека, а кто пытается "отнять" его, тот попирает закон Божий и жизнь человеческого духа; оно неотчуждаемо – ибо человек не может отречься от него, а если отречется, то отречение его не будет весить перед лицом Божиим.
Это право отнюдь не отрицает ни церкви, ни ее призвания, ни ее заслуг, ни ее компетентности; но оно указывает церкви ее основную задачу: воспитать своих сынов к свободному, самостоятельному и предметному боговосприятию. Каждый верующий должен носить в себе самом живые корни своей веры; – веровать не потому, что "с детства так воспитан и привык", но потому, что Божие пламя горит в его свободном сердце, светит его личному разуму, наполняет его волю, озаряет и осмысливает всю его жизнь; – веровать не в то, что ему лишь "преподано и указано", но в то, что он действительно узрел и созерцает сердцем вживе и въяве; веровать не только на людях и для людей, а в одиночестве ночной темноты, лютой опасности, захлестывающего моря, снежной пустыни и тайги, в последнем одиночестве тюремного заключения и незаслуженной казни.
Истинно верующий есть самостоятельный дух; – самосильный не в противопоставлении Богу, а в отдельно-поставлении от людей; – самосильный в том смысле, что он сам имеет любовь к Богу, доступ к Богу и созерцание Бога, имеет все это в себе самом, в одиночестве и самостоянии собственного духа; – он самосилен Божиею силой.
Такие верующие подобны островам в море, или гранитным камням в строении. Нельзя строить церковь из рыхлых, рассыпающихся или внутренне пустых камней. Человеческая организация, в которой все члены надеются на других, а сами не "стоят", не "держат", не "несут" и не "делают", имеет мнимое бытие.
Есть искусники, которые умеют вырезать из бумаги хоровод бумажных человечков, держащих друг друга за ручки. Такие хороводы могут даже стоять, если поверхность стола не слишком гладка и если в комнате нет сквозняка. Но достаточно воздуху придти в движение – и весь хоровод несамостоящих человечков летит под стол.
Церковь держится людьми самостоятельной любви, самостоятельной молитвы и самостоятельного делания. Есть ли что-нибудь более жалкое и фальшивое, как собрание черствых людей, декламирующих о любви, или собрание расчетливых скупцов, восхваляющих доброту и жертвенность? Один человек с горячим сердцем реальнее целого сонма таких лицемеров. И если церковь во время богослужения полна людьми, из коих ни один не молится, ибо не способен к самостоятельной молитве, но все только воображают про других, будто они молятся, то вся эта религиозная совместность остается мнимой и под пеплом мертвых слов Божий огонь не вспыхивает совсем. Делающий о Боге – делает сам и не предоставляет другим делать вместо себя, особенно же тогда, когда зовет и ведет их.
Именно поэтому каждая церковь призвана к тому, чтобы растить, крепить и множить в своем составе людей самостоятельной любви, самостоятельной молитвы и самостоятельного делания. А это значит прежде всего – людей самостоятельного Богосозерцания и подлинного религиозного опыта.
Но такое созерцание и такой опыт требуют непосредственного обращения к Богу; именно такого обращения, которого искали и добивались все истинные боголюбцы всех времен и народов, в особенности же все великие отшельники православного востока, начиная от Антония и Макария и кончая Феофаном Затворником и старцами наших дней. <…>
Это не означает, что всякое "посредничество" в религии не нужно или недопустимо: посредничество пророков, святых, церкви, священников и епископов. Но это означает, что всякое посредничество в религии имеет своей главной целью непосредственное соединение человека с Богом. И если бы нашелся христианский богослов, отвергающий эту основоположную истину, то достаточно было бы указать ему на высший и священнейший акт христианской религиозности, на Таинство Причащения, в котором верующий получает возможность принять Тело и Кровь Христову в форме непосредственнейшей из всех, доступных земному человеку: принять не "восприятием", не зрением, не слухом, не прикосновением, но вкушением, непосредственно вводящим Св. Тайны в телесное естество человека – до полного и нерасторжимого отождествления. Все предшествующие сему действия, – пост, молитва, покаяние, исповедь, отпущение получают значение подготовительных к непосредственному единению. И не подлежит никакому сомнению, что Причащение Св. Тайн указывает и преобразует верующему христианину ту силу и ту степень духовного единения с Богом (столь же непосредственного), к которому он призван стремиться и приближаться. <…>
Это непосредственное касание и единение не может быть заменено никаким чисто человеческим посредничеством. Самая идея о том, что "посредник" между Богом и человеком имеет право и основание отделить человека от Бога, заслонить Бога собой, не допустить человека до Бога, и помешать Богу непосредственно обратиться к человеку есть идея религиозно-разрушительная, противорелигиозная, восстающая на Бога и порабощающая человека. Между Богом и человеком нельзя воздвигать разлучающих препятствий. Если бы один человек сказал другому: "дай, я заслоню от тебя солнце, чтобы ты лучше воспринял его благодатную силу!", то заслоненный имея бы основание дать ему тот ответ, который Александр получил от Диогена: "отойди и не заслоняй мне солнца!".
И все это означает, что основная задача всякого религиозного посредника состоит в том, чтобы научить человека непосредственному обращению к Богу, подготовить его к этому величайшему духовному счастью и обслуживать в дальнейшем это единение, не умаляя его, а поддерживая и углубляя. <…>
Религия есть живое общение души с Богом, а не с замещающим Его человеком. Это есть установление и поддержание таинственной и благодатной духовной связи с самим Предметом. Только живая религиозность есть настоящая; но живая религиозность состоит в живом, самодеятельном искании самого Бога, Его света. Его любви, Его откровения: сердечное созерцание человека вступает в сферу Предмета, а Предмет благодатно вступает в душу человека, очищая ее от "всякой скверны" и одухотворяя ее. Здесь необходимо самостоятельное и непосредственное предстояние Богу, непосредственное приятие Его "сердцем, душой и помышлением"...
Во всех областях человеческой жизни и деятельности зрелость духа определяется его самостоятельным и непосредственным обращением к предмету, так, что недохождение до предмета или недопущение до предмета является признаком несамостоятельности, несвободы и незрелости. Но если это верно применительно к науке и к искусству, в ремеслах, в этике и политике, то в религии это получает совершенно исключительное значение. Ибо нет духовной связи более глубокой, более интимной, более всепроникающей, как связь между человеком и Богом.
Иметь подлинное религиозное бытие значит дерзать самому обращаться к самому Богу, с благоговейным тщанием ("relegando") творить свою непосредственную связь с Ним, быть с Ним "наедине", не бояться и не избегать этого "одиночества", напротив, ценить его так, как его ценили великие пустынножители. Это можно было бы выразить так: тот, кто не дерзает молиться "сам", "без других", – тот и вообще не смеет молиться, совсем не смеет, он не смеет и при других, и через других; ибо – и при других, и через других его молитва, если она на высоте, будет самостоятельна и непосредственна. Но тот, кто не смеет, тот и не творит: он опасливо сторонится, робко воздерживается и только обманывает себя, когда думает, что "через других" он смеет и молится. Когда молитва осеняет душу человека, тогда он молится "сам", "один" и непосредственно. Потребность в молитве есть потребность молиться самому. Тот, кто смеет и может, тот смеет и может, оставшись совсем один: непосредственно. Это, конечно, не значит, что он может присвоить себе компетентность таинства, но это значит, что он понял свою компетентность непосредственного богообращения. <…>
Если мы обратимся теперь к положению "заграждающего" духа, то увидим следующее.
"Заграждающий" не заграждает, если он признает драгоценность непосредственного религиозного единения и старается пробудить и укрепить его; если он посредничает именно для того, чтобы сделать человека религиозно самостоятельным, если он воспитывает временно загражденного к непосредственности...
Но если он заграждает, отрицая возможность и драгоценность непосредственного религиозного единения и стремясь увековечить свое "междустояние", то дело обстоит иначе. Это значит, что он признает "пасомых" членов своей церкви неспособными к непосредственному боговосприятию, а неспособность эту считает не временной и не условной, а субстанциальной и окончательной. Он считает, что люди вообще религиозно-бессильны по самой природе своей души: они обречены на своего рода "imbecillitas religiosa", и потому могут только блуждать и заблуждаться, еретичествовать и грешить, если не будут получать обязательные "копии" и авторитетные "сведения" от посредника. Они от природы присуждены к сущей бого-отлученности...
Поэтому заграждающий признает церковных профанов способными только к "суррогату" религии и культивирует в них не религию а ее подобие. Он систематически приучает их к тому, чтобы они не дерзали помышлять о самом Боге, чтобы они не смели желать общения с Ним и добиваться непосредственного восприятия: заградитель дает им "надлежащее" религиозное содержание, и они должны довольствоваться им.
Это ведет к целому ряду опасных и соблазнительных последствий.
Прежде всего, в этом есть прямое намерение не допустить верующих до Бога, лишить их благодатного общения с Ним, удалить их от Него. Церковь, непрестанно озабоченная удалением людей от Бога, подрывает свое собственное существование. Пресекая и воспрещая непосредственное обращение верующих к Богу, она лишает их всей той благодати, которая дается людям в этом непосредственном общении. В полном и строгом смысле – она лишает их религии, обессиливает этим их свободное сердце и обескрыливает их самостоятельный дух.
В то же время священство или жречество, монополизирующее подлинную религию, внушает верующим, будто оно есть для них единственный источник откровения и благодати, единственное средоточие Бога на земле. Этим оно вселяет в них ложное представление о своем божественном авторитете и вводит их в кощунственный соблазн, – признать своего заградителя за воплощение Божие, за персонифицированный религиозный Предмет, за самого земного Бога.
Этот соблазн рано или поздно захватывает и самого внушающего посредника. Внушая другим о себе черезмерное и ложное, он незаметно привыкает сам к этой идее и к этому соблазну. Превозносясь в чужих глазах, он превозносится и в себе самом. Требуя слепой покорности и слепого благоговения, он начинает верить в свою божественность и святость. И вот он уже объявляет себя "заместителем" Бога на земле и возводит в догмат веры непогрешимость своего религиозно-церковного изволения.
Но и этим последствия заграждения не исчерпываются. Церковь, построенная на заграждении, постепенно утрачивает свою духовность и низводит себя на уровень бессознательного душевного механизма. Это происходит от того, что она силится насаждать и поддерживать религию недуховными или прямо противодуховными средствами: не свободной самодеятельностью сердца и созерцания, а слепой покорностью земному авторитету; – пассивным восприятием сообщаемых "сведений"; подражанием ("копия"), обязательными обрядовыми упражнениями, повторяемыми бесчисленное множество раз (механический штамп); – массовым психическим заражением, страхом, угрозой и в конце концов неизбежным осуществлением этой угрозы (единоличным или массовым). А это означает, что религия измеряется уже не духовными мерилами, а иными: мерилом политической полезности, мерилом пассивной покорности, мерилом земного авторитета и власти, мерилом психического миропокорения, разрешающего все и всяческие (и даже самые богопреступные) средства.
Такая церковь неизбежно обречена на внутреннее вырождение. И не в том смысле, что представляющая ее организация потерпит быстрое и радикальное крушение, а в том смысле, что она утратит свое религиозное измерение. Весьма возможно что ее земной "цемент", "цемент" духовной слепоты, душевной зависимости, привычного механизма и слепой покорности, – окажется крепкими долгим: ибо в земных делах дух "компромисса", неразборчивости в средствах, гипноза и страха бывает "прочнее", чем дух свободы и любви; апеллировать к страстям легче, чем к силам духа; искусство власти может владеть секретом новизны даже и тогда, когда утрачивает тайну глубин и верховное откровение. Поэтому вырождение этой церкви выражается не в быстром развале ее организации, построенной на гетерономной дисциплине, на фанатичной преданности и на массовом гипнозе, а в утрате ею религиозного измерения.
Она утратит молитвенную силу, которая может цвести и плодоносить только при свободном и непосредственном обращении к Богу. Она утратит цельность веры, ибо цельность достижима только для сердца и его созерцания и не достижима для воли и ума. Она утратит искренность в вере, слове и делах, ибо искренность имеет свои особые условия и свои законы, которые требуют автономии, сердечного приятия и непосредственности. Запутываясь в борьбе за власть и в земных компромиссах, такая церковь утратит волю к нравственному совершенству; а вслед за тем и волю к Совершенству вообще: она превратит добродетель в мораль, а мораль – в аптеку прощения, а волю к совершенству – в страх перед грехом; она заменит любовь – благотворительностью, служащей пропаганде, и неискренно-сентиментальной фразеологией; а совесть – сию дивную дверь к Богу – она замурует цементом своих "позволений" и компромиссов и потеряет к ней доступ. И вследствие всего этого она потеряет ту благодатную почтенность, которая присуща живой церкви. И чем более она будет иметь "влияния" в земных делах, и чем больше она будет всемерно хлопотать об упрочении и распространении этого влияния, тем меньше будет ее духовное значение в плане религиозном, тем менее ее будут уважать люди "доброй воли" и "чистого молитвенного сердца".
Дух Евангелия есть дух непосредственной религиозности и непосредственной молитвы; и утрата этого духа выражает удаление от Христа.
Гл.9. О религиозном методе
<…>
В религиозной вере таится всегда элемент исключительности и эту исключительность нельзя сводить к самоуверенности, тщеславию или духовной слепоте верующего. Смягчение этой исключительности возможно для того, кто философствует о религии, но не для того, кто объят религиозным созерцанием и исповеданием. Так, например, человек, переживающий духовное общение с личным Богом, не может признать наряду с этим, что Бог не-личен. Поэтому надо признать, что "Речи о Религии" написаны Шлейермахером не из глубокой сущности религиозного опыта, а от лица романтически-синкретической философии.
Однако эта исключительность религиозной веры, отвергающая истинность несогласных религиозных содержаний, совсем не опровергает и не должна опровергать право других людей исповедовать эти несогласные содержания. Если бы человечество усвоило первую и основную аксиому религиозного опыта, гласящую, что "искренняя вера невозможна без свободы", то оно поняло бы, что свободное и искреннее религиозное заблуждение есть все же вера, тогда как навязанное и неискреннее религиозное правоведе есть могила веры. Религиозность гибнет не от заблуждений. Истина о Боге глубока, трепетно-таинственна и претрудна; и редко кто разумел это со столь великой ясностью, как Григорий Богослов. Но именно поэтому в чистосердечном заблуждении есть искажение от беспомощности, но нет греха к погибели. В заблуждение может впасть и чистая душа – вследствие неверного строения религиозного акта; а правоверное религиозное содержание не обеспечивает человеческого акта от нечистоты и соблазна. Правоверием не следует гордиться. Иноверных не должно презирать. Неправая вера нуждается не в угрозах и не в гонении, а в углублении и очищении акта; путь к этому очищению ей должна указать правая вера с любовью и убедительностью.
<…>
Гл.11. Отверзающееся око
Тот, кто жил и наблюдал, тот, наверное, заметил, как трудно бывает нерелигиозному человеку понять жизнь религиозной души. Ему все кажется, что верующему где-то "изменяет его ум" и "трезвость суждений", что он как будто покидает "главную" и "важную" дорогу жизни, впадает в какие-то "предрассудки" и "суеверия" или включает в свой жизненный опыт такие необычные соображения, "элементы" и "факторы", для признания которых нерелигиозный человек решительно не видит никаких оснований. Что его беспокоит или прямо раздражает, это то обстоятельство, что верующий человек притязает на какое-то особое измерение, в котором он живет и познает, на какое-то не-повседневное созерцание и видение, на иной и притом лучший опыт.
Психологически это беспокойство и раздражение вполне понятны: "я не вижу, а он видит; значит мне чего-то не хватает, а он превозносится надо мной"... Это прощается нелегко; и религиозные люди всегда должны заботиться о том, чтобы не ранить других своим преимуществом. Ибо это преимущество есть не иллюзия, а действительность. Измерение, в котором они живут, есть духовное измерение; созерцание, которое им свойственно, есть сердечное созерцание духовного Предмета; иной опыт, который они в себе вынашивают, растят и берегут, есть религиозный опыт общения с Богом, т.е. с высшей и совершенной силой. Чем религиознее человек, тем увереннее он включает этот опыт в свое жизненное понимание и делание. Надо прямо признать и установить, что настоящая, подлинная религиозность, которая, собственно говоря, только и заслуживает этого именования и является для всякой незрелой и неладной "религиозности" образцом, есть состояние душевно- и духовно-цельное, есть целостная жизнь, направленная к Богу, пребывающая в Его свете и во всех своих жизненных делах, исходящая из Его созерцания.
Настоящая религиозность не только ведет в храм; и не только имеет "красный угол" в комнате и в душе. Она есть жизнь, сама жизнь, подлинная жизнь; она есть Главное в жизни, такое Главное, которое господствует в ней и ведет ее. Она есть не только "метод", восходящий и возводящий к Богу, но "метод" (т.е. путь) с Богом через жизнь. И именно потому так трудно бывает суще-религиозному человеку не беспокоить и не раздражать собой нерелигиозного или противорелигиозного безбожника: ибо безбожник почти каждым жизненным шагом своим отрицает и попирает то, что религиозный человек в каждом жизненном деянии своем любит, созерцает и осуществляет как главное. Это состояние души, выражаемое словами "религиозная цельность", надо представить себе вживе и въяве. <…>
Гл.12. О РЕЛИГИОЗНОМ СОМНЕНИИ
Существует весьма распространенное воззрение, согласно которому религиозный человек – верует и не сомневается, если же он начинает сомневаться, то это означает, что вера его колеблется, распадается и утрачивается. Это воззрение характерно для эпохи религиозного упадка, когда человек воспринимает свою веру, как нечто от него самого независящее, как бы "спорхнувшее" на него из высшего пространства и способное также легко упорхнуть, как легко оно прилетело. Вера есть что-то вроде прелестной бабочки, которую стоит только спугнуть, чтобы она безвозвратно улетела. А сомнение есть именно такая спугивающая сила...
Такое понимание свидетельствует о том, что человек воспринимает свою религиозную веру, как некое неуловимое, капризное настроение: оно появляется неизвестно откуда и исчезает неизвестно почему. Оно относится к безличным "состояниям" души: "мне хочется", "мне думается", "мне кажется", "мне поется", "мне тоскливо". И вот так же: "мне веруется", "мне не веруется". Такие состояния можно "иметь", когда они "приходят", а приходят они сами по себе; когда же они "исчезают", "улетучиваются", тогда остается только сказать, что "их больше нет". Любилось и разлюбилось; "верилось", а теперь больше "не верится". А так как спокойнее и легче жить, когда "верится", то сомнения "надо гнать"...
В такой постановке вопроса есть много обывательской беспомощности, – правда, трогательной (ибо пытающейся оберечь свою "святыню"...), но в то же время наивной и обреченной. Наивной – потому, что человек говорит о вере и религии, не имея никакого представления о том, что такое религиозный опыт, как он добывается, строится и удостоверяется. Обреченной – потому, что религиозная вера не может прозябать в виде тепличного растения: она требует духовного простора, воздуха и свободы, она есть по призванию своему высшая жизненная сила, светящая и ведущая. Вера есть кормчий в буре; как может она прозябать в теплице? Она есть источник жизненного бесстрашия; как может она трепетать от каждого сомнения? Она составляет глубочайший корень личной жизни; как же может она уподобиться случайно севшей и легко спугиваемой бабочке?
Современный мир пронизан сквозняком безбожия. Этот сквозняк несет с собой весь яд духовного "анчара", – все соблазны плоского чувственного опыта, рассудочной "диалектики", технической полунауки, омертвевшего сердца, развращенного воображения, деморализованной воли, кощунственных дерзаний, воинствующей пошлости, озлобленного властолюбия, неистовых страстей и малодушного предательства. Противостать этому может только вера, нашедшая свои первоосновы, утвердившаяся в них, очистившаяся от соблазнов, закаленная в религиозном опыте, искусившаяся в видении и сомнении, в приятии и в отвержении; вера, знающая верный путь, опасные перепутья и последнюю распутицу; вера, выросшая в бурное время и потому умеющая повелевать бурям души. Время религиозного упадка ныне прошло: религиозность будет могучей, цельной и побеждающей, или же ее не будет вовсе, и тогда не будет на земле ни духа, ни культуры.
Религиозное сомнение само по себе не есть "соблазн" и совсем не предвещает "конца религии". Его "приход" опасен только для беспочвенной и беспомощной "религии настроений": "спугнутая бабочка" вспорхнет и улетит навсегда... На самом же деле приход религиозного сомнения означает, что пора "невинных" детских снов прошла; что религиозность, сводящаяся к капризной случайности настроений, есть мнимая религиозность; что духовная сила не родится из беспомощности; что пришла пора начинать свое "радиальное" движение к Богу.
Сомнение отделяет религиозное "детство" и, может быть, религиозное "отрочество" от зрелой поры, от веры мужественной, крепкой и окончательной. Оно не "соблазн", а "горнило"; не "конец религии", а обновление и углубление. "Отмахиваться" от него значит нарочно длить свою детскую беспомощность, т.е. умалять силу веры и победу религии. Сомнение же, наподобие "природы": гонимое в дверь, влетает в окно. Чтобы его преодолеть, надо в нем "побывать"; не преодолевший его сохраняет уязвимые места своей религиозности, которые могут раскрыться в труднейший час жизни и привести его к духовному крушению. И пока он не преодолеет их, он не может помочь другому в их преодолении; ибо учить и вести в вопросах веры может только мастер истинного, религиозно-предметного, творческого сомнения. <…>
Религиозное сомнение есть состояние автономного опыта; у гетерономно-верующего не может быть сомнений: вместо него и за него будет сомневаться его "авторитет". Именно поэтому появление в душе религиозного сомнения означает нередко начало автономного религиозного опыта. Дело в том, что религиозное сомнение разрешимо только через опыт, сосредоточенно и благоговейно направленный на религиозный Предмет ("предметная интенция"); оно успокаивается только от непосредственного и подлинного созерцающего удостоверения. Душа человека, раз почувствовавшая и осознавшая, что ей необходимо для веры и для окончательного религиозного самовложения – объективное основание, начинает опасную борьбу за такое основание и может получить его только сама и от самого Предмета.
Откровение дается человеку именно для угашения его религиозного сомнения. И напрасно Апостола Фому называют "неверным" или "неверующим": стоя перед лицом неслыханного, невероятного, почти непредставимого события, он искал предметного удостоверения и не встретил отказа, но, удостоверившись, воскликнул: "Господь мой и Бог мой!" (Иоан. XX. 26-28). "Увидеть" (т.е. осязать раны Христа) дано было только Апостолам; другие же должны удостоверяться нечувственным, духовным опытом, и, по слову Христа, они удостоверения. Но погасить сомнение без откровения человеку не дано в земной жизни, а строить религиозный опыт и религию на безответственном легковерии – значит "строить дом на песке" (Мтф. VII, 26-27).
И вот, когда человек начинает в своем опыте борьбу за религиозное удостоверение, то он имеет тем больше надежды на успех, чем интенсивнее, чем глубже, чем подлиннее и искреннее его сомнение. Тогда оно становится зовом, исканием, просьбой, молитвой. Он "просит" и ему "дается"; он "ищет" и "находит"; он "стучит" и ему "отворяют" (Мтф. VII, 7-8). Настоящее религиозное сомнение есть, прежде всего, интенсивная и подлинная жажда узреть Бога. Душа, так сомневающаяся, не может быть ни безразличной, ни пассивной: самое сомнение ее есть живая сосредоточенность на Предмете и направленность в Его сторону; это есть разновидность предметной воли, это есть интенциональное состояние религиозного опыта. Это сомнение деятельно, настойчиво; оно в тревоге и напряжении; ему важно, ему необходимо разрешиться в положительную или в отрицательную сторону.
Вот почему религиозное сомнение не сводится к "сознаванию" или "пониманию" религиозной проблемы, к "исследованию" или "анализу". Самый утонченный философский аналитик или "конструктор" может оказаться бесплодным в созерцании и ведении. Кто сомневается в религиозной области, тот, правда, поглощен "проблемой", и можно сказать, что он носит в себе "опыт проблемы"; но к этому необходимо добавить нечто гораздо большее: этот "опыт проблемы" должен стать для него центральным содержанием сердца, созерцания и воли.
Оказывается, что настоящее сомнение в религиозной сфере религиозно не только по содержанию и по предмету, но и по характеру самого акта: по своей силе и остроте, по подлинности, по интенсивности и цельности. Воля к предмето-видению захватывает душу человека до глубины, и она оказывается одержимой религиозным Предметом, как еще проблематическим содержанием. Это отнюдь не парадокс, не игра словами и не преувеличение. Настоящее религиозное сомнение есть как бы огонь, снедающий душу и образующий в ней живое и подлинное средоточие, сердцевину бытия. <…>
Образно выражаясь, можно было бы сказать: настоящее религиозное сомнение есть состояние огненное, подобное "неопалимой купине"; и огонь этого сомнения призван дать человеку первый луч очевидности, падающий в отверзтое око его духа и пронизывающий его душу до дна.
Философски выражаясь, следует сказать: есть сила религиозного сомнения, скрывающая в себе благодатную, божественно-сильную и божественно-благотворную волю к Боговосприятию. Пережить сомнение о Боге, полное религиозной жажды и воли, значит пережить очевидный опыт Божьего действия и проявления, а следовательно и Божьего бытия.
Иными словам: кто истинно сомневается в бытии Божием, тот уже имеет Бога в самом акте своего сомнения. Ибо истинно-религиозное сомнение есть уже начавшийся опыт религиозной очевидности. <…>
Гл. 16. Огни личной жизни
Существует весьма распространенное воззрение, согласно которому религиозность есть нечто вполне "личное", "интимное", имеющее отношение только к тому, кто верует: она отвечает его личной душевной "потребности" в "настроении", в жизненном "устроении" и "спокойствии" (тихая лампадка в интимном углу, чтобы было не так страшно спать и грешить... и никого это не касается"...). При таком воззрении религия превращается в бытовой аксессуар повседневной жизни.
Этому пониманию противостоит другое, в силу которого религиозный опыт вызывает у верующего человека чувство живой и сильной духовной ответственности. Веровать значит ведать истину о Боге; значит иметь настоящий доступ к Божественному и стоять с ним в живом духовном общении. Не истина от веры ("мне в это верится, должно быть это и есть истина"); а вера от истины ("вижу, что это сама истина, и потому не могу не веровать"). То, что религиозный человек приемлет верой и исповедует, есть для него не условное допущение, не "вероятность" и не "правдо-подобная гипотеза", – но сама сущая правда, приемлемая силой безусловного и окончательного утверждения. Как бы ни был скромен и непритязателен сам верующий, это остается делом его личной души и личного характера; природа же его верования сохраняет свое окончательное и категорическое значение, а значение самого веруемого содержания остается объективным и всеобщим. Если я утверждаю религиозную истину, то все, несогласные со мной, пребывают в религиозном заблуждении. Как бы смиренно и благодушно я не произносил эти формулы, – я не могу не произнести их, ибо они заложены в самом религиозном веровании, владеющем мной. А в этом есть великое и ответственное притязание. И когда смирение и благодушие покидают верующего, то он всегда может впасть в религиозную нетерпимость и воинственность, что мы и видим в истории человечества.
Иметь религию есть великое притязание и великая ответственность, сколь бы мало ни думал об этом легкомысленный и беспечный человек. Выбор и предпочтение одной веры есть тем самым суд над другими верами и осуждение их. И если этот выбор и этот суд не вырастают из чувства величайшей ответственности и из соответствующего ей духовного делания ("метод, ведущий к Предмету"), то они могут оказаться в действительности жалкой претензией и великой дерзостью.
Религиозная вера есть притязание: она притязает на владение религиозной истиной. Это притязание обязывает; оно обязывает еще более, чем всякое другое притязание.
Оно обязывает, прежде всего, перед самим собой. Ибо религиозным верованием человек определяет всю свою жизнь: свою жизненную цель, свой характер, свое творчество, всю свою судьбу, а в конечном счете свое религиозное спасение или же свою погибель. Упустить, исказить, продешевить и опошлить все это – значит поистине пренебречь самим собой и утратить себя.
Религиозное верование обязывает человека в особенности перед Богом. Ибо небрежное, беспечное или безразличное отношение к доступному мне Реальному Совершенству, – к Богу, источнику спасения, любви и благодати, – равносильно отказу от Него и ведет к утрате Его и к оскудению человеческой жизни и культуры. Человек отвечает за то, во что он верует. Если он не ищет Откровения, то чего же он ищет в жизни? Если он не приемлет открывающегося ему Бога, то он приемлет другое, богочуждое или богопротивное. Отвергая Бога, он становится противником Его; не радея о верности своей веры, он становится сознательным или бессознательным исказителем Откровения. Верование не может быть делом произвольного выбора; а раз принятое сердцем, оно требует верной жизни и верных дел. Вот почему верующий отвечает перед Богом за то, во что он верует сердцем, что исповедует устами и что осуществляет делами; он отвечает за свои религиозно противопредметные страсти, за смуту своего легкомыслия, за соблазн своих писаний, за вздорность своих мнимо-религиозных выдумок. И, может быть, никто не ощущал этой ответственности с такой силой и остротой, как Григорий Богослов (Назианзин) с его учением о религиозном младенчестве толпы.
Понятно, что религиозное верование возлагает на человека ответственность и перед всеми остальными людьми. Человеку от природы дана способность таиться от других людей, притворяться и обманывать; религиозное же верование не терпит ни притворства, ни обмана. Человек отвечает за подлинность и искренность своего верования перед всеми другими людьми. Но отвечает перед ними и за предметную основательность своей веры. В сфере духовного опыта необходима особая "честность", особое тщание, ибо взаимная проверка здесь не всегда возможна и человек слишком часто обречен здесь на одинокое предстояние. Всякое речение: "я вижу так", "я верую в то-то", или "в сфере Божией обстоит вот как" – возлагает на человека великую ответственность за реченное: ибо если он исповедует то, чего не видит, то он произносит мертвые слова и мертвит веру в других; если он учит религиозной неправде, то он соблазняет других и разрушает в них религиозное доверие к религиозному опыту вообще; его безответственная неправда засоряет объем религиозных содержаний.
Преступно заполнять столь утонченно-сложную и трудно-удостоверяемую сферу духа легкомысленными или произвольными, или симулирующими изъявлениями, разочаровывающими людей и разрушающими их взаимное религиозное доверие друг к другу. Безответственный или недобросовестный религиозный проповедник разрушает духовную жизнь на земле – и личную, и общественно-церковную, а в конечном счете и национально-государственную.
В религии безответственная болтовня разрушительна и преступна. Лучше честный агностицизм, лучше скромно-аскетический скептицизм, чем соблазн беспочвенного и нечистого пустословия.
Вот почему всякое верование, а тем более всякое религиозное исповедание обязывает. Оно предполагает, что человек осуществил все возможные усилия в религиозном созерцании Предмета; что он осознал ответственность своего "верую и исповедую"; что он учел все соблазны, идущие от личных, нечистых страстей и ведущие к легковерию, всуеверию и пустоверию; что он искал оснований и корней и стремился удостоверять свою веру; что он не боялся пройти через горнило религиозного сомнения.
Именно чувство религиозной ответственности приводит человека к религиозному сомнению. Но не к сомнению религиозного безразличия, мертвящему и разрушающему, а к сомнению взыскующему, очищающему и удостоверяющему. <…>
Сомнение есть жажда удостоверения. Но в религии удостоверяет не "чувственное восприятие" и не рассудок, не "логика" и не "доктрина". В религии удостоверяет духовный опыт, опыт сердца, сердечное созерцание, восприятие личным духом. "Разум" участвует в этом, но совсем не в виде "рассуждающего мышления", а в видеопыта достаточного основанияи в виде переживаниядуховной очевидности. И "воля" участвует в этом, но не в виде насилия над собой, побуждающего верить в безразумное и противоразумное ("Credo quia absurdum"), а в виде усилия, сосредоточивающего душу, организующего энергию созерцания и предоставляющего последнее слово – духовной очевидности.
Сомнение есть дело разума и воли. Но разрешение сомнения есть дело сердца и созерцания. Разум и воля организуют душу в обращении к Богу; сердце и созерцание суть органы, воспринимающие божественное свето-откровение. Разум и воля призваны к тому, чтобы создать в душе духовную чистоту, непредрешающее бесстрастие, сосредоточенную восприимчивость и отзывчивость, "ранимость" душевно-духовной ткани, зоркость сердечного видения. Но осуществляют акт религиозной очевидности не они, а сердце и созерцание. <…>
Этого можно достигнуть только при том условии, если сомневающийся человек имеет "дерзновение" самостоятельно обратиться к Богу и непосредственно простереть к Нему просящие длани своего духа. Религиозное сомнение должно быть достаточно сильно, потребность сердца в Боге должна быть достаточно остра для того, чтобы в душе созрела такая способность, решимость и готовность. Для этого в духе должен отпасть троякий страх.
Во-первых, страх перед другими людьми, кто бы они ни были представители власти, обличающие, запрещающие, грозящие, отлучающие, "исключающие" или сожигающие ("comburi"). И для того, чтобы преодолеть этот страх, нередко укрывающийся в оттенках, человеку рекомендуется погасить в себе всякое религиозное тщеславие и пророческое притязание: искать религиозного восприятия про себя и для самого себя, и отнюдь не превращать найденную религиозную истину в учение. Если под "ересью" разуметь то, что таит в себе первоначальный смысл этого греческого слова ("άίρησισ"), т.е. "поятие", или самостоятельное восприятие Божества, то человеку от самой природы его духа принадлежит "естественное право на ересь" и только притязательное, незрелое, немудрое, неосновательное и заносчивое превращение этого лично-свободного Боговосприятия в безответственное провозглашение и в публичное учение может сделать это право спорным или даже непризнаваемым.
Во-вторых, – страх перед Богом. Я разумею при этом не "страх" как благоговение, не "страх" как смирение, не "страх" как чувство собственного недостоинства, ведущее к заботе о своем религиозном очищении, – такой страх не удаляет от Бога, а приближает к Нему, а "страх", испытываемый перед злым страшилищем, мешающий целостной любви к Богу, воспрещающий непосредственное обращение к Нему, внушающий душе идею "греховности" или даже "гибельности" самостоятельного обращения сына к Отцу. Такой страх пресекает религиозное искание, ослабляет молитву, мешает строительству религиозного опыта и делает сомнение бесплодным.
В-третьих – страх за себя. В известном смысле этот страх духовно-естественен и необходим. Ибо нет ничего противнее в сфере религиозного опыта, как развязная самоуверенность, как грубый и пошлый аутизм, как соблазнительная болтовня скороспелых и неопрятных дилетантов: они нисколько не боятся за себя, но они, – что гораздо важнее, – "не боятся Бога" и "не стыдятся людей". Вот почему "страх за себя" является, в некотором смысле, одним из первоусловий подлинного религиозного сомнения и опыта. Но этот страх не должен гасить в человеческой душе уверенности в том, что откровение угодно Богу и благодатно для человека; что Господь "близ стоит при дверех"; что человеку естественно и совершенно не запретно обращать к Нему свой вздох, свой зов и свой взор; что никто не вправе запрещать человеку непосредственную молитву к Богу – и что не следует ему в этом бояться за себя.
Наконец, сомнение будет продуктивно только тоща, если человек не только "вздыхает" и "жаждет", но и "делает", т.е. активно и неутомимо строит свой религиозный опыт. Мало одной воли к предметности, к истине и непосредственности Бого-восприятия; необходимо очищение души, строительство духа и "стучание у врат".
Душа человека имеет свои земные завесы, которые заслоняют ее духовный взор и мешают ей видеть Бога. Она должна раздвигать эти завесы своего земного естества; она должна как бы "протирать свои очки", на которых оседает земная пыль, копоть и всякая нечистота. Она должна заботиться о чистоте своей душевно-духовной "среды", которая воспринимает лучи Божьего солнца.1Многие не видят Бога потому, что око их не духовно и не чисто.
Человек должен трудиться над свободой и собранностью своего духа. Расщепленный, несобранный дух теряет свое внимание (силу "внутри имания"); он не интенсивен и бессилен. Он рассеян по земному множеству. Он скитается по периферии души и питается поверхностью вещей.
Ищущий человек находит искомую вещь тем легче и тем скорее, чем живее он представляет ее себе памятью и воображением. Именно поэтому ищущий Бога (сомневающийся!) должен помнить Его, представлять себе вживе и въяве совершенство Реального и реальность Совершенства. Он должен обращаться к Богу, открывать Ему свое око, вопрошать Его своим сомневающимся сердцем о Его бытии и свойствах. Одним словом: его духовная бдительность должна стать действительным бдением о Боге. И сомнение его разрешится.
Но он должен с самого начала помнить о тех логических искушениях, которые ждут его на пути. Так, нельзя заключать от "не вижу" к "не могу видеть" (a non esse ad non posse) или к "не увижу никогда" (a praesente ad futurum). Нельзя превращать частно-отрицательное суждение: "я не вижу" – в обще-отрицательное "никто не видит". Нельзя делать из признания своей или общей познавательной немощи: "я не вижу Бога", "мы не воспринимаем Бога" – экзистенциальный вывод: "значит Бога нет". Верная постановка вопроса совсем иная: "еще не вижу – но увижу"; "я не воспринимаю – но другие, может быть, воспринимают"; ибо "есть многое на свете, чего не снилось и нашим мудрецам" (Шекспир). <…>
Итак, религиозное сомнение есть путь предметного удостоверения. Религиозность, не нуждающаяся в этом удостоверении, есть религиозность мертвая и слепая: она живет не от Бога, а от людей, которым подражает и которым (страшно сказать!) доверяет больше, чем Богу. Это есть "вера" легковерная, гетерономная и опосредствованная. Она не знает религиозной очевидности, именно поэтому она способна становиться страстной и буйной, доходя до неистовства и до гонений. Ибо, не имея очевидности, она не имеет и истинной уверенности, и потому лишена тишины созерцания и покоя истины.
Напротив, вера, прошедшая через религиозное сомнение, приобретает крепость несомненности после сомнения: она становится насыщенной удостоверением и приобщается к религиозному покою и религиозному равновесию достигшего духа. Такая вера не страшится ни слова, ни спора, ни критики, ни упрека в "субъективизме, ибо она, пройдя путь предметного искания и нахождения, искусилась я в опыте ив "методе". И потому она встречает критику спокойным и благожелательным предложением: "Испытуем же Предмет еще раз совместно! Смотри духовным оком из живой любви – и увидишь Бога! " <…>
Каждый из нас призван к свободе: он должен превратить свой земной путь в непрерывное духовное очищение, с тем чтобы сделать свой дух главно-определяющим фактором и свободным двигателем личной жизни. Ибо свобода не дана человеку, как абсолютная независимость ото всего, но задана ему как все возрастающая независимость от зла и пошлости.
Согласно этому жизнь человека может и должна стать постоянным и прогрессивным самоосвобождением. Это самоосвобождение состоит в том, что человек собирает энергию своей любви, своего созерцания и своей воли, укрепляет ее и присоединяет ее, как внутреннюю силу, к своим духовно-религиозным избраниям и предпочтениям, и к своим совестным и благородным влечениям, решениям и деяниям. Этим человек освобождает себя. Он освобождает себя не от всех и всяких "потребностей", "влияний", "традиций", "влечений" и т.д., а только от пошлых и злых. Он добивается свободы, не в смысле полной "неопределенности", полной "пустоты", полного "произвола"; да и зачем ему понадобилось бы это систематическое обессиление или убивание в себе всех излучений и веяний Царства Божия?! Он добивается свободы для своей личной духовной силы, составляющей самое священное ядро его бытия, чтобы она была способна в любой момент жизни "осилить" или "пересилить" "черные лучи" мрака, веяния злобы, соблазны зла и мутные воды житейской подлости и пошлости. Каждый шаг этого укрепления личной духовной силы есть шаг к самоосвобождению и свободе, или, что то же, к религиозному очищению, а это значит шаг, приближающий к Богу. Поэтому истинная свобода человека состоит – в естественной легкости его Духа, в силе его доброты и совестности, в целостной радости Божественному. <…>
Духовно слепой человек, "просыпаясь" к сознательной жизни "взрослого", видит себя детищем таких-то родителей, членом такой-то семьи, принадлежащим к такому-то государству и сословию, к такой-то профессии, бедным или богатым, здоровым или больным, одаренным или бездарным, умным или глупым, образованным или полуобразованным, в таком-то жилище, с таким-то знакомством и природо-окружением, с такими-то исторически обусловленными или "чисто случайными" событиями и впечатлениями жизни. Все это ему "дается", все это на него "изливается", "влечет" его с собой или за собой, открывает перед ним известные житейские пути и возможности.
Из всего этого "слагается" "кривая" его жизни – если он человек со слабой волей; из всего этого он сам "лепит" и "формирует" свою жизнь – если он человек с сильной волей. И вот, – религиозно говоря, за всем этим скрываются те жизненные "огни", которые он должен усмотреть, принять и усвоить, чтобы, укрепляясь ими, осуществить свой жизненный катарсис.
Дело в том, что каждое из этих данных "обстоятельств" и "событий" таит в себе свой внутренний смысл, – свое бремя, свою духовную проблематику, свое задание, а может быть, и свою боль, свое страдание, свое искушение, свой соблазн, свою опасность, свое крушение, но, что всего важнее, – свой зов, свое умудрение и свое приближение к Богу. Нет "безразличных", т.е. духовно пустых или мертвых обстоятельств; нет, по слову Пушкина, "напрасных и случайных даров" жизни; нет – "праздных" событий. Все в жизни "говорит", "зовет" и "учит"; все подает знак, все знаменует о более глубоком и более высоком; все значительно. "Нет на земле ничтожного мгновения" (Баратынский). И вот, искусство жизни, очищения, роста и умудрения состоит в умении "расшифровывать" все эти, посылаемые каждому из нас, Божии иероглифы и созерцать их верный и чудный смысл; и не только созерцать, но усваивать его мудрость, – постигая каждое событие и явление своей жизни, как личное обращение Бога к человеку, и постигнув так эту мудрость, включать ее в свой характер, в свой дух, в свой акт, в свое сердце, в свою волю, в свою молитву. Тогда все начинает давать человеку свой сокровенный "свет" и "огонь"; и внутренний "огонь" человека усиливается от этого и становится определяющим, ведущим, главным и все охватывающим. Жизнь становится духовным возрастанием и очищением; и огни ее ведут человека к Богу.
Гл. 17. Дары Церкви
<…>
Исходное обращение к религиозно-многомощному учителю или пророку оказывается только началом, или как бы первым уроком, или актом первопрозрения; человек узнает не просто пророка, а Бога через пророка: он видит Бога в душе пророка и преклоняется перед пророком, как носителем и истолкователем Божества, – и при том, для того и с тем, чтобы, воспроизводя новый акт, научиться видеть Бога самостоятельно. В этом уже дано – не только начало религиозно-церковной иерархии, но и основное задание этой иерархии: воспитывать в своей "пастве" самостоятельное и непосредственное Богосозерцание.
Начало духовно-верной иерархии заложено во всякой религии и строит всякую церковь: религиозная община, отметающая это начало ("всякий верующий – сам себе священник"), – или незаметно восстановит его (как у "православных" "беспоповцев") или разложится в хаосе и деморализации. Люди не равны – ни в чистоте своих душ, ни в Богосозерцании и Богоузрении, ни в силе молитвы, ни в религиозной мудрости, ни в дарах Благодати, как передаваемых церковно-преемственно (каноническое рукоположение, сообщающее "право" на таинство, на учение и на суд), так и воспринимаемых свыше ("харизмы"). Люди не равны во всем этом; и ранг их возводится обычно к основателю церкви и через него к воруемому Божеству. Драгоценно, чтобы осуществлялось именно это обращение к самому Божеству: чтобы душа учителя и пророка не заслоняла Бога и не уводила от Него; напротив, чтобы она открывала Его и вела к Нему. Ибо тогда только Откровение не заменяется "прикровением" и человек обретает непосредственный путь к Богу. Душевно-духовная "среда" учителя и основоположника должна давать ищущему подлинное восприятие Богобытия и Богоприсутствия, непомраченный и неискаженный опыт Божества. А это возможно воистину только в том случае, если учитель и основоположник религии – сам божествен. И вот, то, чего в тайне и бессознательно искало человечество, было осуществлено Христом, Сыном Божиим. <…>
Огромное большинство людей почти неспособно к отрешенному нечувственному созерцанию, которое дается лишь избранным натурам и требует долгого упражнения и особой душевно-духовной дифференциации; большинство людей нуждается в чувственном воображении и изображении для того, чтобы хотя через него узреть нечувственное. – Это дело насильственное потому, что запрещение скульптурных и живописных изображений в религии остается внешней "отменой", нисколько не считающейся с религиозной способностью и потребностью человека: новый отрешенный религиозный акт нельзя предписывать и навязывать, как это пытались сделать императоры-иконоборцы во главе с Львом Исавром и Карлом Великим. – Это дело опустошительное потому, что отказ от чувственного воображения в религии сразу – нарушает жизненную цельность религиозного акта и лишает религиозное чувство всего того богатства, всей той художественной глубины и всей той духовной выразительности, которые присущи подлинному искусству. <…>
Когда человек вешает у себя в комнате портрет своей покойной матери или отсутствующего друга, то, взирая на него, он отнюдь не принимает изображение дорогого человека за самого почившего или отсутствующего. И тем не менее он вешает портрет этот на видном и почетном месте, чтобы созерцать сквозь условно похожие и несовершенно передающие черты – то душевно-духовное существо, которому он предан сердцем. Это делают почти все люди и никто из них не считает себя "портретообожателем" или "идолопоклонником".
Икона есть зримое напоминание о Боге и призыв к Нему, а не сам Бог; поэтому давно пора перестать говорить ветхо-заветные слова о "кумире" и "всяком подобии". Она есть, подобно храму, как бы "дверь Божия", в которой не следует останавливаться, но через которую следует войти в "пространство духовной молитвы". Икона не заменяет и не замещает Божественного Предмета, но образно символизирует Его, даруя человеку восприятие "отсутствующего" и незримого, но как бы присутствующего и видимого: чувственное взирание вызывает в душе сердечное созерцание, и дух пробуждается к вниманию и молитве. <…>
Невозможно сомневаться в том, что Христос вел со своими учениками негласные, а может быть, и прямо тайные беседы, наподобие Его беседы с Никодимом. Невозможно также сомневаться в том, что канонические евангелия сохранили нам не все, что желала бы воспринять о Христе душа верующего христианина. Есть ряд "апокрифических" евангелий; и тот, кто читал их, может только изумляться тому безошибочному отбору, который был проведен Церковью при составлении новозаветного канона: до такой степени в этих "евангелиях" проявляется чуждый дух, дух человеческого любопытства, словоохотливой выдумки и снижения высших мерил, в отличие от духоносного и живоносного характера канонических Евангелий. Есть еще сборники "Логий", т.е. отдельных изречений, приписываемых Христу. Однако наряду с этим Церковь хранит еще изустное предание, о необходимости которого высказался с такой убедительной силой и глубиной Василий Великий (О Святом Духе, гл. 27). Это Предание не следует смешивать с бесчисленными, нередко наивными, фантастическими и по духу нехристианскими "легендами" позднейшего происхождения.
Церковное Предание обычно не "повествует", а дает указания о совершении молитв, обрядов и таинств и об их сокровенном смысле. Отвергнуть это все рассудком, оторванным от сердечного созерцания, значит порвать те драгоценные, живые нити, которые связывают нас с Апостолами и приближают нас к эзотерии Христа. Принимать же это наследие следует из плеромы сердечного созерцания.
Это требование относится с еще большей силой к Догмату.
Надо знать, что далеко не все религии, известные нам из истории человечества, имели свои зрело завершенные догматы. Религиозность Индии прямо уклонялась от догматики. О догматах Пали-Буддизма трудно даже и говорить. Мудрая практическая философия Конфуция и Лао-Цзы воспитывала человека, а не раскрывала ему истинного ведения о Боге. В Пятикнижии Моисея насчитывается до 613 заповедей к соблюдению, но "символа веры" в нем не найти. Греки, римляне и позднейшие культы Ближнего Востока жили мифом, а не догматом. Таким образом христианский Символ Веры является вряд ли не первым догматом в истории религий.
Верующий христианин, воспринимая от своей Церкви такой догмат, раскрывающий ему истину о Боге и тем самым высший смысл общечеловеческой и личной жизни, получает сразу великое облегчение, но и бремя чрезвычайной ответственности. Облегчение состоит в том, что ему дается зрелый плод долгого и целостного религиозного опыта, воспринявшего Откровение из первоисточника и молитвенно претворившего его "о Духе" в сердечно-продуманное и формулированное "учение". Он получает из чистого и авторитетного источника то "благое научение", которое призвано стать как бы "духовным кристаллом" его собственного автономного религиозного опыта. Но именно это и возлагает на него высокую религиозную ответственность. <…>
Напрасно люди думают и говорят, будто Символ Веры, сформулированный Церковью шестнадцать веков тому назад, изжил свое время и устранен развитием научной культуры. Они пытаются этим "объективировать" в истории духовную инородность и несостоятельность своего собственного акта, как бы "узаконяя" свою неспособность к духо-сердечному созерцанию. "Грозя" никейскому Символу Веры от лица рассудочной науки, они не понимают или забывают основное, именно, что рассудок совершенно некомпетентен в делах религиозного опыта и что ему нечего сказать в той сфере, которая раскрывается только инородному (гетерогенному) акту. "Наука", которая не понимает своих предметных и актовых пределов, забывает обязательный для нее аскез силы суждения и вторгается в недоступные ей сферы, – есть уже не наука, а "полу-наука", со всей ее слепотой и зловредностью.
Акт, наблюдающий внешние явления, удостоверяющий их и обобщающий их черты, желающий все взвесить и смерить, некомпетентен в сфере духовного опыта; и суждения его безответственны и неинтересны. Догмат дается Церковью, как основа религии, а религия не есть наблюдение внешних явлений и есть не просто умственное "воззрение", а самый огонь жизни. Так называемое "христианское" человечество еще не жило в духе и в смысле христианского Символа Веры, и пути эти для него еще открыты. – Таков внутренний смысл догмата. <…>
Поистине, нет лучшего религиозного научения, нет более действительного проповеднического служения, как сила и искренность личной молитвы. Вера крепнет и распространяется не от логических аргументов и не от усилий самонасилующейся воли, и не от повторения слов и формул, но от живого восприятия Бога, от молитвенного огня, от очищения сердца, его подъема и просветления, от живого созерцания, от реального посещения Благодатию. Если священник способен искренно и беззаветно молиться сердцем и действительно молится так в своем уединении, то его церковная молитва будет зажигать, очищать и просветлять сердца его прихожан. Это пламя одинокой молитвы будет гореть и в его церковном богослужении, и в его проповеди, и в его жизненных делах. И прихожане его сразу почувствуют сердцем, что "Сам Дух" молится в нем "воздыханиями неизреченными" (Римл. 8. 26) и что эти воздыхания передаются и им по неизреченным путям.
Пастырь, коему присуща эта искренность и сила молитвы, является как бы "неопалимой купиной" в своем приходе: прихожане его, иногда сами того не замечая и не разумея, становятся соучастниками его молитвы; им передается теплота его веры; они приобщаются его духовному полету. И поучения его воспринимаются по-особому; не только умом, а и сердцем, живой совестью и воспрянувшей волей. Его беседы проникнуты творческим духовным опытом, живым религиозным созерцанием; они идут от сердца и воспринимаются всей душой. И даже простая встреча с ним испытывается как утешение и безмолвное ободрение. Таков был Василий Великий.
В основе всего этого лежит некий религиозный закон, согласно которому глубина веры растет и крепнет в молитве, ибо молитва есть благодатное вознесение души к Богу, озаряющее, удостоверяющее и очищающее. Вот почему пастырь призван быть живым источником и живой школой молитвы.
Второе, что пастырь несет своим прихожанам в качестве дара от лица Церкви, есть живое, любящее сердце. Лучшее христианское миссионерство есть то, которое проистекает из подлинной доброты и сердечного понимания. Пока человеческое чувство сохнет и гаснет в умственно-отвлеченных богословских построениях, пока ум холодно рассуждает и выносит приговоры, враждует в прениях и каменеет в ненависти, до тех пор человеку остается недоступным откровение Христа. Бессердечные люди не постигают в Евангелии самого главного; а если поймут, то не заживут им и не осуществят его. Черствая жадность делает человека слепым и глухим. "Реки воды живой" (Иоанна 7. 38) текут только у любящих людей: ибо любовь отверзает сердце человека – и для Христова откровения, и для жизни и страдания других людей.
Если священник имеет эту любовь, то она чувствуется и воспринимается и в его церковной молитве, слышится и в его проповеди, обнаруживается и в его делах. Кто беседует с ним или помогает ему, у того возникает особое ощущение: он чувствует, что воспринял от своего духовника нечто драгоценное, жизненно существенное и ободряющее, что он испытал свет и теплоту сердечного огня, что он почувствовал живую доброту, что он приблизился к тому, что разумел Христос, когда говорил о любви. Ибо живое сердце имеет запас доброты для всех: утешение для горюющего, помощь для нуждающегося, свет для беспомощного, живое слово для всякого, добрую улыбку для цветов и для птичек. Простое обхождение с таким человеком становится незаметно живой школой сердечного участия, любовного такта, христианской мудрости. И все это прекрасно и благодатно, ибо истинный духовник есть носитель христианского духа, духа любви и сердечного созерцания. Таков был Серафим Саровский.
И вот, третье, к чему приводит христианский пастырь и что нам дарит через него Церковь – есть свободная и творческая совесть. Эта совесть должна жить в нем, как самостоятельная и независимая сила, как критериальная мера добра и зла, мера, по которой светские люди могли бы проверять, выправлять и крепить свою собственную совесть.
Там, где мы беспомощно сомневаемся и колеблемся, он, как мастер совести, должен видеть ясно и глубоко; где мы блуждаем и заблуждаемся, он должен знать и указывать нам прямую дорогу; где мы вопрошаем, он должен иметь ответ. Он должен поддерживать нас в искушениях и соблазнах; он должен быть нашей опорой в колебаниях и изнеможении. Он должен сразу прозревать, где есть нечестность, неискренность, измена, интрига; и при этом – хранить справедливость в суде и в осуждении. Ибо совестный христианин не преувеличивает ни в утверждении, ни в отрицании. Его суждение исходит из предметного видящего смирения, но произносится с мужеством и силой, ибо не он только произносит его, но предметный огонь в нем. Сколь прекрасен искренний и откровенный исповедник ничем и ни в чем неподкупный, бесстрашный пред сильными и свободный от честолюбия и властолюбия! Сколь драгоценен такой очаг христианской совести, с чистым пламенем и кротким светом! Таков был Иоанн Златоуст.
Понятно, что священство и старчество такого православного уклада является одним из драгоценнейших даров Церкви. Издревле монахи и священнослужители, жившие сердечным созерцанием и посвящавшие себя сверх этого и духовному аскезу, входили в тот "собор христианской праведности", который Церковь берегла и завещала последующим поколениям. Еще Василий Великий призывал: "желай лучше узнать жизнь праведных" (Письма. 39) и советовал "всматриваться в жития святых, как бы в движущиеся и действующие какие изваяния" (Письма. 2). И если вспомнить, что вчувствование в совершенство есть один из лучших путей для душевного очищения, то и этот дар Церкви предстанет нам во всем своем значении.
Весь этот путь должен естественно привести человека к религиозной цельности и религиозной искренности.