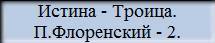Павел Флоренский и Сергий Булгаков.
Худ. М.Нестеров.
Худ. М.Нестеров.


Священник Павел Флоренский среди новомучеников.
Мозаика в капелле "Redemptoris Mater".
Ватикан. Работа о. Марка Рупника
и членов ателье Центро Альетти, 1999 г.
(Фото о. Милана Жуста).
hrono.ru/libris/lib_f/florenski2002.html
Мозаика в капелле "Redemptoris Mater".
Ватикан. Работа о. Марка Рупника
и членов ателье Центро Альетти, 1999 г.
(Фото о. Милана Жуста).
hrono.ru/libris/lib_f/florenski2002.html

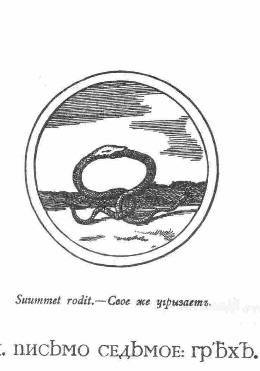

Истина - Троица. П.Флоренский.
«Истина есть интуиция-дискурсия»
Истина есть интуиция, которая доказуема, т.е. дискурсивна. Чтобы быть дискурсивною, интуиция должна быть интуицией не слепой, не тупо-ограниченной, а уходящею в бесконечность, – интуицией, так сказать, говорящей, разумной. Чтобы быть интуитивною, дискурсия должна быть не уходящею в беспредельность, не возможною только, а действительною, актуальною.
Д и с к у р с и в н а я и н т у и ц и я должна содержать в себе синтезированный бесконечный ряд своих обоснований; и н т у и т и в н а я ж е д и с к у р с и я должна синтезировать весь свой беспредельный ряд обоснований в конечность, в единство, в единицу. Д и с к у р с и в н а я и н т у и ц и я есть интуиция дифференцированная до бесконечности; и н т у и т и в н а я ж е д и с к у р с и я есть дискурсия интегрированная до единства.
Итак, если истина есть, то она – реальная разумность и разумная реальность; она есть конечная бесконечность и бесконечная конечность, или, – выражаясь математически, – а к т у а л ь н а я б е с к о н е ч н о с т ь, – Бесконечное, мыслимое как цело-купное Единство, как единый, в себе законченный Субъект. Но законченная в себе, она несет с собою всю полноту бесконечного ряда своих оснований, глубину своей перспективы. Она – солнце, и себя и всю вселенную озаряющее своими лучами. Бездна её есть бездна мощи, а не ничтожества. Истина – движение неподвижное и неподвижность движущаяся. Она – единство противоположного. Она – coincidentia oppositorum.
Раз так, то скепсис, действительно, не может уничтожить истины и, действительно, она – «сильнее всего», она всегда даёт скепсису оправдание себя, она – всегда «ответчива». Н а к а ж д о е «почему?» есть ответ, и, при том, все ответы эти даны не разрозненно, не внешне сцепляясь один с другим, но свитыми в целостное, изнутри сплочённое единство. Единый миг восприятия Истины даёт её со в с е м и её основаниями (– хотя бы они н и к е м, – нигде и никогда, – не мыслились раздельно!), мгновение ока даёт всю полноту ведения.
Такова абсолютная Истина, буде она существует. В ней должен находить себе оправдание и обоснование закон тождества. Пребывая выше всякого внешнего для себя основания, выше закона тождества, Истина обосновывает и доказывает его. И, вместе с тем, в ней – объяснение, почему бытие неподвластно этому закону.
Пробабилистически - предположительное построение ведёт к утверждению Истины, как само-доказательного Субъекта, – такого Субъекта, qui per ipsum concpiritur et demostratur, который через себя постигается и доказуется, – Субъекта, который безусловно Господин себе, Господь, владеет синтезированным в единство и даже в единичность бесконечным рядом в с е х своих обоснований, господствует над всеми своими основаниями. Мы не можем конкретно мыслить такого Субъекта, ибо не можем синтезировать бесконечный ряд во всей его целокупности; на пути последовательных синтезов мы всегда будем видеть лишь конечное и условное. Прибавляя сколько угодно раз к конечному числу конечное же число, мы не получим ничего, кроме числа конечного. Подымаясь на горы всё выше и выше, – воспользуюсь образом Канта, – мы тщетно надеялись бы достигнуть рукою небо; и безумны расчёты на вавилонскую башню. Точно так же и в с е н а ш и у с и л и я всегда будут давать только синтезируемое, но никогда – осинтезированного. Бесконечная Единица трансцендентна для человеческих достижений.
Если бы в сознании у нас о к а з а л о с ь реальное восприятие такого само-доказательного Субъекта, то оно было бы именно ответом на вопрос скепсиса и, следственно, уничтожением эпохэ. Если эпохэ вообще разрешима, то только таким уничтожением, разгромом, – если угодно, полновластным удовлетворением; но её решительно нельзя просто о б о й т и и л и у с т р а н и т ь. Попытка пренебречь эпохэ непеременно является логическим фокусом, – не более, и в тщетном стремлении произвесть такой фокус загублены все догматические системы, не исключая и Кантовой.
В самом деле, если не удовлетворено условие интуитивной конкретности, то Истина будет лишь пустою возможностью; если же не удовлетворено условие разумной дискурсивности, то истина является не более, как слепою данностью. Только осуществлённый независимо от нас конечный синтез бесконечности может дать нам р а з у м н у ю д а н н о с т ь или, другими словами, само-доказуемый Субъект.
Имея все основания себя и явления себя нам – в себе же, т.е. имея все основания с в о е й р а з у м н о с т и и с в о е й д а н н о с т и – в себе, он само - обосновывается не только в порядке разумности, но и в порядке даннocти. Он – causa sui как по сущности, так и по существованию, т.е. он – не только per se concpiritur et demonstrator, но и per se еst. Он – «чрез себя есть и чрез себя познаётся». Это хорошо понимали схоластики.
Так, по определению А н с е л ь м а К е н т е р б е р и й с к о г о Бог – “per se ipsum ens”, “ens per se”. По замечанию Ф о м ы А к в и н с к о г о природа Бога “per se nessese esse”, ибо она “prima causa essendi, non habens ab alio esse”. – Вот более точное определение смысла этого “per se”: “Per se ens est, quod separatium absque adminicolo alternius existit, seu quod non est in subjecto inhaesionis: quod non est hoc modo per se accidents”.
Это разумение Бога, как само-сущего и само-разумного, красною нитью проходит чрез всю схоластическую философию и своё крайнее, но одностороннее применение находит в философии С п и н о з ы; по третьему определению Спинозовской «Э т и к и», налагающему своеобразный отпечаток на всю систему его, субстанция именно и есть то, что само-суще и само - разумно: “Per substantian intelligo id, quod in se est et per se concpiritur”.
Само-доказуемый Субъект! Формально мы можем утверждать, что эта «Бесконечная Единица» всё объясняет, потому что дать объяснение чему-нибудь, это значит, во первых, показать, как оно не противоречит закону тождества и, во вторых, как данность закона тождества не противоречит возможности его обоснования.
Встаёт, однако, новый вопрос. Как некое откровение в нашем восприятии явила себя (– допустим! –) синтезированная в конечную интуицию бесконечность ряда оснований. Пусть так. Но к а к ж е, и м е н н о, эта интуиция дала бы обоснование закону тождества со всеми его нарушениями?
Прежде всего, как возможна множественность со-существования (разногласие, вне-положность) и множественность последования (изменение, движение)? Другими словами, как временно-пространственная множественность не нарушает тождества?
– Она не нарушает тождества т о л ь к о в том случае, если множество элементов абсолютно синтезировано в Истине, так что «другое», – в порядке сосуществования и в порядке последования, – есть в то же время и «не другое» sub specie aeternitatis, – если этеротэс, «инаковость», отчуждённость «другого» есть только выражение и обнаружение тавтотэс, тождественности «этого же».
Если «другой» момент времени не является уничтожающим и пожирающим собою «этот», но, будучи «другим», он есть в то же время «этот», т.е. если «новое», открывающееся к а к н о в о е, есть «старое» в его вечности, если в н у т р е н н я я с т р у к т у р а вечного: «этого» и «другого», «нового» и «старого» в их реальном единстве такова, что «это» д о л ж н о появиться в н е «другого» и «старое» – р а н е е «нового», если, – говорю, – «другое» и «новое» является таковым не чрез себя, а чрез «это» и «старое», а «это» и «старое» суть то, что они суть, не чрез себя, а чрез «другое» и «новое», если, наконец, каждый элемент бытия есть только член субстанционального отношения, о т н о ш е н и я - с у б с т а н ц и и, то тогда закон тождества, вечно нарушаемый, вечно восстановляется самым своим нарушением.
Последним положением, зараз, даётся ответ и на старый вопрос, а именно: «Как возможно, что всякое А есть А?». Да, в таком случае из самого закона тождества течёт источник, разрушающий тождество, но зато это разрушение тождества есть мощь и сила вечного его восстановления и обновления. Тождество, мёртвое в качестве ф а к т а, может быть и непременно будет живым в качестве а к т а. Закон же тождества тогда окажется не всеобщим законом бытия, так сказать, поверхностного, а поверхностью бытия глубинного, – не геометрическим образом, а внешним обликом недоступной рассудку глубины ж и з н и; и в этой ж и з н и он может иметь свой к о р е н ь и своё о п р а в д а н и е. Слепой в своей данности закон тождества может быть разумен в своей созданности, в соей вечной создаваемости; плотяный, мёртвый и мертвящий в свое статике, он может быть духовным, живым и живо-творящим в своей динамике. На вопрос: «Почему А есть А?» отвечаем: «Потому А есть А, что вечно бывая не-А, в этом не-А оно находит своё утверждение как А». Точнее: А потому есть А, что оно есть не-А. Не будучи равно А, – т.е. самому себе, – оно в вечном порядке бытия всегда устанавливается силою не-А, как А. Впрочем, об этом речь будет далее.
Таким образом, закон тождества получит обоснование не в своём низшем, рассудочном виде, но в некотором высшем, разумном. Эта «в ы с ш а я ф о р м а з а к о н а т о ж д е с т в а» – основное открытие о. архимандрита С е р а п и о н а М а ш к и н а; впрочем, ценность открытия обнаруживается только при конкретной разработке системы философии.
Вместо пустого, мёртвого и формального само-тождества «А=А», в силу которого А должно было бы самостно, само-утвержденно, эгоистически исключать всякое не-А, мы получили содержательное, полное жизни, реальное само-тождество А, как вечно отвергающегося себя и в своём само-отвержении вечно получающего себя. Если в первом случае А есть А (А=А) вследствие исключённости из него в с е г о (– и е г о с а м о г о в е г о к о н к р е т н о с т и! –), то теперь А есть А чрез утверждение себя как не-А, чрез усвоение и уподобение себе всего.
Отсюда понятно, к а к ов само-доказательный Субъект и в ч ё м его само-доказательность, – если только вообще он есть.
Он таков, что он есть А и не-А. Обозначим для ясности не-А чрез Б. Что же – Б? Б есть Б; но оно само было бы с л е п ы м Б, если бы не было вместе и не-Б. Что же такое не-Б? Если оно – просто А, то А и Б были бы тождественны. А, будучи А и Б, было бы одним только простым, голым А, равно как и Б. (Как увидим, в ересеологии это соответсвует модализму, саввелинству и т.п.). Чтобы не было простого тождесловия «А=А», чтобы было р е а л ь н о е равенство «А есть А, ибо А есть не-А», необходимо, чтобы Б само было реальностью, т.е. чтобы Б было зараз и Б и не-Б; последнее, т.е. не-Б для ясности обозначим чрез В. Чрез В круг может замкнуться, ибо в его «другом», – в «не-В», – А находит себя как А. В Б переставая быть А, А от д р у г о г о, но не от этого, которому приравнивается, т.е. от В, опосредовано получает себя, но уже «доказанным», уже установленным. То же относится и к каждому из субъектов А, Б, В троичного отношения.
Само-доказательность и само-обоснованность Субъекта Истины Я есть отношение к Он чрез Ты. Чрез Ты субъективное Я делается объективным Он, и в последнем имеет свое утверждение, свою предметность как Я. Он есть явленное Я. Истина созерцает Себя чрез Себя в Себе. Но каждый момент этого абсолютного акта сам абсолютен, сам есть Истина. Истина – созерцание Себя чрез Другого в Третьем: Отец, Сын, Дух. Таково метафизическое определение «сущности – усиа».
Само-доказательность и само-обоснованность Субъекта Истины Я есть о т н о ш е н и е к О н ч р е з Т ы. Чрез Т ы субъективное Я делается объективным О н, и в последнем имеет своё утверждение, свою предметность как Я. Он есть явленное Я. Истина созерцает Себя чрез Себя в Себе. Но каждый момент этого абсолютного акта сам абсолютен, сам есть Истина. Истина – созерцание Себя чрез Другого в Третьем: Отец, Сын, Дух. Таково метафизическое определение «сущности – усия» само-доказательного Субъекта, которая есть, как видно, субстанциональное отношение. Субъект Истины есть о т н о ш е н и е Т р ё х, но – отношение, являющееся субстанциею, отношением-субстанциею. Субъект Истины есть Отношение Трёх. А так как конкретное отношение вообще есть система актов жизнедеятельности, в данном же случае – б е с к о н е ч н а я с и с т е м а а к т о в, с и н т е з и р о в а н н ы х в е д и н и ц у или, ещё, б е с к о н е ч н ы й е д и н и ч н ы й а к т, то мы можем утверждать, что усия Истины есть Б е с к о н е ч н ы й а к т Т р ё х в Е д и н с т в е. Потом мы конкретнее объясним этот бесконечный акт Жизни.
Но что такое каждый из «Трёх» в отношении к б е с к о н е ч н о м у а к т у – с у б с т а н ц и и?
Реально это не то, что весь Субъект, и реально же – это то же, что и весь Субъект. В виду необходимости дальнейших рассуждений мы назовём его, – как «не то», – «и п о с т а с ь ю - ипостасис», тогда как ранее уже установили мы термин «с у щ н о с т ь - усия» – для обозначения его как «то же». –
Следовательно, Истина есть единая сущность о трёх ипостасях. Не три сущности, но одна; не одна ипостась, но три. Однако, при всём том, и п о с т а с ь и с у щ н о с т ь – о д н о и т о ж е. Выражясь несколько не точно, скажу: «Ипостась – абсолютная личность». Но, спрашивается: «В чём же личность, как не в сущности?». И ещё: «Разве даётся сущность иначе как в личности?». – Да, и всё таки всё предыдущее устанавливает, что не одна ипостась, а т р и, хотя сущность – к о н к р е т н о едина. И потому н у м е р и ч е с к и, числом – о д и н Субъект Истины, а н е т р и.
«Святые и блаженные отцы наши, – пишет авва Т а л а с с и й, – как единое существо Божества триипостасным признают, так св. Троицу единосущною исповедуют. – Единица, простираясь у них до Троицы, пребывает Единицею; и Троица, собираясь в Единицу, пребывает Троицею. И сие чудно. – Сохраняется так у них свойство ипостасей неподвижным и непреложным, и общность сущности, т.е. Божества, нераздельною. Исповедуем Единицу в Троице, и Троицу в Единице, разделяемую нераздельно и совокупляемую разделительно».
«Почему же ипостасей, именно, три?» спросят меня. Я говорю о числе «три», как имманетном Истине, как внутренне неотделимом от неё. Не может быть м е н ь ш е Трёх, ибо только три ипостаси извечно делают друг друга тем, что они извечно же суть. Только в единстве Трёх каждая ипостась получает абсолютное утверждение, устанавливающее её, как таковую. Вне Т р ё х нет ни одной, нет Субъекта Истины. А
б о л ь ш е трёх? – Да, может быть и больше трёх, – чрез принятие новых ипостасей в недра Троичной жизни. Однако, эти новые ипостаси уже не суть члены, на которых держится Субъект Истины, и потому не являются внутренне - необходимыми для его абсолютности; они – условные ипостаси, могущие быть, а могущие и не быть в Субъекте Истины. Поэтому-то их нельзя называть ипостасями в собственном смысле, и лучше обозначить именем обоженных личностей и т.п. Но, кроме того, имеется ещё одна сторона, доселе опущенная нами; впоследствии мы обсудим её со тщанием. А покуда заметим только: в абсолютном единстве Т р ё х нет «порядка», нет последовательности. В трёх ипостасях каждая – непосредственно рядом с каждой, и отношение двух только м о ж е т быть опосредствовано третьей. Среди них абсолютно немыслимо первенство. Но всякая четвёртая ипостась вносит в отношение к себе первых трёх тот или иной п о р я д о к и, значит, с о б о ю ставит ипостаси в неодинаковую деятельность в отношении к себе, как ипостаси четвёртой. Отсюда видно, что с четвёртой ипостаси начинается сущность совершенно новая, тогда как первые три были одного существа.
Другими словами, Троица может быть б е з четвёртой ипостаси, тогда как четвёртая – самостоятельности не имеет. Таков общий смысл троичного числа.
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ: ТРИЕДИНСТВО.
«Троица единосущная м нераздельная, единица триипостасная и соприсносущная» – вот единственная схема, обещающая разрешить эпохэ, если только вообще можно удовлетворить вопросу скепсиса. Лишь её не расплавил бы пирронизм, если бы встретил её осуществлённой в о п ы т е. Если вообще может быть Истина, то вот – путь к ней, при том, единственный. Но проходим ли он на деле, не есть ли он лишь т р е б о в а н и е разума, – хотя и необходимое и неизбежное для разума, – это не ясно. Найдена единственная для разума возможная и д е я и ст и н ы; однако не рискуем ли мы остаться с о д н о ю т о л ь к о и д е е ю – вот вопрос. Истина есть несомненно то, что мы сказали о ней; но есть ли она вообще – мы того не знаем. Этот вопрос стоит на очереди. Но, прежде нежели идти вперёд в исследовании нашего настоящего вопроса, поясню идею Триипостасного Бога, – о котором мы говорили доселе в терминах философских, – языком богословия.
Идея едино-сущия, как известно, выражается термином омоусиос, омоусиус. Около него и из за него происходили, в существе дела, все тринитарные споры. Вглядеться в историю этих прений – значит обозреть все цвета и все оттенки, которыми окрашивалась идея едино-сущия. Но я могу избавить себя от этого труда, сосавшись на «Истории догматических споров» (в примечаниях: список из 10 книг – Л.Р.)
Как известно, ни светская языческая письменность, ни письменность церковная до-никейская не знали различия между словами усия и ипостасис, впоследствии рассматривавшимися как termini technici; в философском словоупотреблении усия безусловно приравнивалась к ипостасис. Так было даже ещё в V в. по Р.Х. Есть все основания думать, что и отцы первого вселенского собора принимали слова «ипостась» и «сущность» в качестве равно-значущих и совсем не имели в виду того различия между ними, которое было внесено позднейшею мыслию. Св. А ф а н а с и й Великий употребляет их как равно-значущие и, даже спустя 35 лет после никейского собора, он решительно утверждает в одном из посланий, что «ипостась есть сущность и не иное что обозначает, как самое существо». На одной почве с Афанасием стояло старое поколение никейцев. А в конце IV-го века бл. И е р о н и м, в послании к папе Дамасу, определённо говорит, что «школа светских наук не знает иного значения слова ипостась, как только сущность (usian)». Но известно также, что в позднейшем богословии тот и другой термин стали различаемы. Р а з л и ч а е м ы – да, но р а з л и ч н ы ли по содержанию? Несомненно, они различаемы друг относительно друга, подобно тому, как «правое» различается в соотношении с «левым»; и «левое» – с «правым», но, – спрашиваю, – различно ли их содержание безотносительно, о себе? Правильно ли утверждение, что один термин (ипостась, ипостасис), тогда как другой (сущность, усия) – общее?
– Тут ответом, прежде всего, может служить то обстоятельство, что выбрана пара слов, всячески совпадающих по содержанию. Почему так? – Только потому, что обозначаемое ими логически разнствует друг с другом лишь о т н о с и т е л ь н о, взаимно, но – не в се б е, н е о с е б е.
Если позволить себе грубое сравнение, содержания рассматриваемых терминов относятся друг к другу, как предмет и его зеркальное отражение, как рука и её дружка, как кристалл право-вращающий и кристалл лево-вращающий и т.д. Во всех этих случаях существенная разность одного объекта от другого воспринимается вполне явственно, но логически н е м о ж е т быть охарактеризована иначе, как чрез ссылку на другой объект: в восприятии даётся не одно и то же, но когда нас спрашивают, в ч ё м же, именно, разность, то мы не можем фактически не отождествить разнствующего и формально вынуждены признать тождественность.
Так – и относительно терминов «ипостась» и «сущность». Ведь «е д и н о - сущие» означает собою к о н к р е т н о е е д и н с т в о Отца и Сына и Духа Св., но никак не единство номинальное; омоусиус у Афанасия и старших никейцев прямо равносильно эк усиас то Патрос. Но если – так, то ипостасис, – так сказать, личная сущность Отца и Сына и Духа Св., поскольку каждый из них рассматривается отдельно от других, – ни мало не сливаясь с другою ипостасис, в то же время неотделима от неё. Если терминологически, формально слово ипостасис стало принципиально - о т л и ч н ы м от усия, то содержательно, по своему логическому значению ипостасис остаётся решительно т е м ж е, что усия. В том-то и выразилось безмерное величие никейских отцов, что они дерзнули воспользоваться вполне тождественными по смыслу речениями, верою победив рассудок, и, благодаря смелому взлёту, получив силу даже с чисто-словесною чёткостью выразить невыразимую тайну Троичности.
Отсюда понятно, что всякие попытки разграничить усия и ипостасис, придать каждому их них с а м о с т о я т е л ь н о е логическое положение, н е взаимно-относительное, в н е контекста догмата, неизбежно должны были вести и вели на деле к рационализированию догмата, к «сечению Несекомого», к так называемому т р и т е и з м у или т р ё х - б о ж н о й ереси. Ещё с древности обвинение в тритеизме висит над головою каппадокийцев. Конечно, оно несправедливо; но оно глубоко знаменательно. Ещё большим уклоном к рационализму ознаменовали себя омиусиане. Омиусиус, или омиус кат усиан значит «т а к о й же сущности», «с т а к о ю же сущностью», и, хотя бы даже ему было придано значение омиус ката панта, «во всём такой же», – всё едино, – оно никогда не может означать нумерического, т.е. численного и конкретного единства, на которое указывает омоусиус. Вся сила таинственного догмата разом устанавливается е д и н ы м словом омоусиус, полно-властно выговоренного на Соборе 318-ти, потому что в нём, в этом слове – указание и на реальное единство, и на реальное же различие. Нельзя вспоминать без благоговейной дрожи и священного ужаса о том, без конца значительном и единственном по философской и догматической важности миге, когда гром «Омоусиус» впервые прогрохотал над Городом Победы. Тут дело шло не о специальном богословском вопросе, а о коренном само-определении Церкви Христовой. И единым словом «омоусиус» был выражен не только христологический догмат, но и духовная оценка рассудочных законов мышления. Тут был на-смерть поражён рассудок. Тут вперыве было объявлено новое начало деятельности разума.
Вспомним, в самом деле, что такое всё христианское жизнепонимание? – Развитие музыкальной темы, которая есть система догматов, догматика. А что есть долгматика? – Расчленённый Символ Веры. А что есть Символ Веры? – Да не иное что, как разросшаяся крещальная формула, – «Во имя Отца и Сына и Св.Духа». Ну, а последняя-то уж, несомненно, есть раскрытие слова омоусиус. Рассматривают ветвистое и широко-сенное древо горчичное жизне-понимания христианского, как разросшееся зерно идеи «е д и н о - с у щ и я», – это не логическая только возможность. Нет, и с т о р и ч е с к и именно так и было. Термин омоусиус и выражает собою это антиномическое зерно христианского жизне-понимания, это е д и н о е имя («во и м я Отца и Сына и Св. Духа», а не «во имена») Т р ё х Ипостасей.
Очагом омиусианского рационализирования были в значительной мере ф и л о с о ф с к и е стремления. Вот почему, аскет и духовный подвижник А ф а н а с и й Великий, к тому же, быть может, по определению свыше не получивший философского образования и, во всяком случае, внутренне порвавший со всем, что – не от веры, математически-точно сумел выразить ускользавшее даже в позднейшую эпоху от точного выражения для умов интеллигентных.
И замечательно, сколько усилий пришлось тратить каппадокийцам, – они гордились своими университетскими годами! – чтобы сопротивляться тянувшей их к тритеизму философской терминологии. «Общность природы (койнониа), согласно смыслу всей терминологии каппадокийцев, – утверждает А.А.Спасский, – ещё не не говорит о реальном бытии сущности и не гарантирует её нумерического единства. Природа в Божестве и в людях может быть едина, но своё конкретное осуществление находит в ипостасях».
Несмотря на этот тритеистический тон своих писаний, каппадокийцы в душе были вполне православны и явно, что внутреннее их разумение шло неизменно далее неточных слов. Как бы исправляясь, в 38-ом письме В а с и л и й Великий заявляет: «Не удивляйся, если говорим, что одно и то же и соединено и разделено, и если представляем мысленно, как бы в гадании, некое новое и необычайное разделение соединённое, и единение разделённое». А Г р и г о р и й Нисский в своём «Большом катехизическом поучении» решительно становится н а д рассудком: «Кто до точности вникает в г л у б и н ы т а и н с т в а, хотя объемлет некоторое скромное по непостижимости понятие бого-ведения, не может однако уяснить словом этой неизречённой глубины таинства: как одно и то же числимо и избегает счисления, и разделено зримо и заключается в единице, и различаемо в ипостаси и не делимо в подлежащем».
Таким образом, последняя формула «единой сущности» и «трёх ипостасей» приемлема лишь постольку, поскольку она одновременно отождествляет и различает термины «ипостась» и «сущность», т.е. поскольку она снова приводится к чисто-мистическому, сверх-логическому учению старо-никейцев или к слову омоусиус.
И напротив, всякая попытка рационально истолковать указанную формулу посредством вложения в термины усия и ипостасис р а з л и ч н о г о содержания неминуемо ведёт либо к савеллианству, либо к тритеизму. Богословие до-афанасьевское – богословие апологетов, опиравшееся на античную философию, впадало в ошибку первого рода (различные виды монархианства), полагая несоразмерный вес в е д и н с т в е Божественной сущности и тем лишая ипостаси собственного их бытия. Оно то субординастически подчиняло Сына и Духа Святого Отцу, то сливало ипостаси. Богословие после-афанасьевское, тоже связавшее себя античными терминами, грешило в сторону прямо противоположную, так как, в противовес апологетическому монархианству, чрезмерно настаивало на с а м о с т о я т е л ь н о с т и ипостасей и тем впадало в тритеизм. Если первое имело склонность обратить в видимость ипостасную множественность Божества, то второе, несомненно, тяготело к уничтожению существенного Его единства.
Равновесие обоих начал – у А ф а н а с и я. Его богословие – это та точка, где погрешность, прежде чем перейдёт с «–» на «+», делается строго нулём. И потому Афанасий Великий, можно сказать, – исключительный носитель церковного сознания касательно рассматриваемого, – догмата Троичности. Может быть, после него богословие усовершенствовалось в частных вопросах, но у кого из позднейших отцов в эпоху соборов равновесие двух начал было так математически-точно и у кого была очевиднее показана сверхлогичность догмата, нежели у этого поборника единосущия, – святителя, из православных православнейшего.
«Среди защитников никейского собора, – говорит А.А.Спасский, – Афанасий занял исключительное место; он был не только их вождём, но и показателем их положения в церкви. Все козни, направлявшиеся против никейского символа, начинались обыкновенно с Афанасия; изгнание служило ясным симптомом усиливавшейся реакции; торжество его являлось торжеством никейского собора и его вероучения. Можно сказать, что Афанасий на своих плечах вынес никейский символ из бури сомнений, вызванных им на Востоке. Не даром позднейшее поколение никейцев назвало его спасителем церкви и столпом православия». Не даром, – добавлю,– Григорий Богослов не находит достаточно сильных слов, чтобы восхвалить Великого Александрийца. Он – «блаженный, поистине Божий человек и великая труба истины», он «прекратил недуг» Церкви, он – «мужественный поборник Слова» и «строитель душ». Не даром «претерпеть за Афанасия что-либо самое тяжкое подвижники почитали величайшим приобретением для любомудрия, ставили это гораздо богоугоднее и выше продолжительных постов, возлежания на голой земле и других злостраданий, какими они всегда услаждаются». «Святейшее око вселенной, архиерея иереев, наставника в исповедании, сей великий глас, столп веры, сего, – если можно так сказать, – второго светильника и предтечу Христова, почившего в старости доброй, исполненной дней благородных, после наветов, после подвигов, после многой молвы о руке, после живого мертвеца, к себе переселяет Троица, для Которой он жил, и за Которую терпел напасти». «Я уверен, – добавляет Григорий Богослов, – что по сему описанию всякий узнает Афанасия». И действительно, он всегда был на страже. Когда пытались весьма тонко-рационалистически подделать омоусиус, Афанасий спешит предупредить Иовиана относительно тех, которые «принимают вид, что исповедуют веру никейскую, в самой же истине отрицают её, перетолковывая речение “едино-сущный”», и не обинуясь называет их арианами. И вот почему: он понимает, – как говорил Григорий Богослов, – что «вместе с концами слогов распадутся и концы вселенной» (ЛР), что тут малого отступления быть не может, что всякое, по-видимому тончайшее, рационализирование догмата делает его солью обуявшею, что нельзя говорить об искажении догмата, когда вечный Столп Истины подменяется прахом носимым в ветре по дорогам. «Отцов Никейских, – писал сам Афанасий, – должно уважать, иначе не приемлющие символа должны быть признаваемымы скорее всеми, н о н е х р и с т и а н а м и». В е с ь смысл догмата – в афанасьевском установлении омоусиус, и вне «едино-сущия» – лишь суета человеческих, мятущихся мнений.
Вот почему грубоватый Рим тоже не сдавался ни на какие ухищрения, и все льстивые, мудрствующие речи восточных полу-ариан, как много-шумливые волны, разбились о камень веры, – о непреклонное со стороны Рима требование вернуться к никейскому символу.
Возвращаюсь к вопросу о скепсисе.
Чтобы закон тождества был дан не только как глухой корень рассудка, – чтобы избавиться от эмпирии рассудка, которая нисколько не лучше эмпирии чувственности, нужно было бы выйти за пределы рассудка, войти в ту область, гле к о р е н и т с я рассудок со всеми своими нормами. Это значит, что нужно было бы в о п ы т е осуществить синтез безотносительного и отношения, первого и выводного, покоя и движения, единицы и бесконечности и т.д. Рассудок н е п р и н и м а е т этих сочетаний. Там, где каждое А есть А и только А, искомый синтез решительно невозможен. Если он возможен вообще, то только лишь за пределами рассудка, причём д л я р а с с у д к а раз полученный синтез будет мыслиться как идеальный предел рассудка, как по-ту-стороннее, за-предельное, т р а н с ц е н д е н т н о е для него образование, – как регулятивный принцип. Но, при попытке охватить этот синтез, рассудок, по самой структуре своей, не может воспринять его целостности и неминуемо разлагает его не несовместные, противо-полагающиеся термины. Coincidentia oppositorum неудержимо распадается и рассыпается на взаимоисключающие opposita. А раз так, то д л я р а с с у д к а будет безвыходным либо устранение одного из терминов в пользу другого, либо ритмическое чередование их, – борьба, подобная борьбе разно-цветных зрительных полей в стереоскопе. То или другое, но н е синтез! Кстати сказать, победа одного термина над другим будет соответствовать той или иной ереси, а чередование полей – рассудочному «православию» учебников, какое на самом деле есть лже-православие, представляющее собой букет несовместимых ересей. (ЛР)
В поисках достоверности мы наткнулись на такое сочетание терминов, которое для рассудка не имеет и не может иметь смысла. «Троица во Единице и Единица в Троице» для рассудка ничего не означает, если только брать это выражение с его истинным, не потворствующим рассудку содержанием; это – своего рода «корень из 2». И, тем не менее, сама наличная норма рассудка, т.е. закон тождества и закон достаточного основания, приводит нас к такому сочетанию, требует, чтобы оно и м е л о свой смысл, чтобы оно б ы л о исходным пунктом всего ведения. Осуждая себя самого, рассудок требует Троицы во Единице, но не может вместить Её. А для того, чтобы в о п ы т е пережить это требование, этот постулат разума (– если только он вообще может быть переживаем в опыте! –), разум должен мыслить его, должен построить себе н о в у ю норму. Для последней же необходимо препобедить рассудок, – единственное, что есть у нас, хотя и не оправданное: мудрость Божественная и мудрость человеческая столкнулись. Поэтому сам от себя разум никогда не пришёл бы к возможности такого сочетания. Только а в т о р и т е т «Власть Имеющего» может быть опорною точкою для усилий. Доверившись и поверив, что тут, в этом усилии – Истина, разум должен отрешиться от своей ограниченности в пределах рассудка, отказаться от замкнутости рассудочных построений и обратиться к н о в о й норме, – стать «новым» разумом. Тут-то и требуется свободный подвиг. С в о б о д н ы й: ибо разум может делать усилие и подняться к лучшему, а может и не делать его, оставаясь при том конечном, условном и «хорошем», что он уже имеет. П о д в и г: ибо нужно усилие, напряжение, само-отречение, сбрасывание с себя «ветхого Адама», а в это время всё д а н н о е, – «естественное», конечное, знакомое, условное, – тянет к себе. Нужно само- преодоление, нужна в е р а. Если вообще достижимо «б е с т р е п е т н о е С е р д ц е н е п р е л о ж н о й И с т и н ы», о котором тосковал Парменид, то путь к Нему не минует гефсиманского подвига веры.
Ариане и православные – вот типичный случай, когда две позиции явно противо- поставились одна другой. «В то время как православные, – пишет один исследователь, – ставили вопрос, н у ж н о ли мыслить в Боге три действительных Лица, три нераздельных единства Божественной Сущности, и отвечали на этот вопрос категорическим утверждением, – ариане спрашивали: м о ж н о ли мыслить троичность Божественных Лиц, при нераздельном единстве их сущности, – и отвечали нет, нельзя». Творя подвиг веры, православные искали д о л ж н о г о, высшего; ариане же, внутренне само-оберегаясь, расчётливо выспрашивали: «А не потребует ли Истина жертвы от нас?» и, завидя сад Гефсиманский, пятились назад. И те и другие делали с в о б о д н ы й выбор; однако, ариане употребляли свою свободу на рабство себе, а православные – на освобождение себя от плена плотской ограниченности. «Вы дерзаете учить и мыслить невозможное», – писал Е в н о м и й Василию Великому и Григорию Нисскому про догмат христологический. Это – крик плотяности, крик рассудка, ходящего по стихиям мира и эгоистически дрожащего за свою целость, – рассудка довольного собою, несмотря на п о л н о е в н у т р е н н е е р а з л о ж е н и е его, рассудка в своей безграничной боязни пред малейшею болью дерзающего самую Истину приспособлять к себе, к своим слепым и бессмысленным нормам. Но для ж и в о т н о г о страха за себя есть только одно средство – б и ч. «Власть имеющий» поднял его над растленным рассудком: «Истинно, истинно говорю вам: Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода; любящий душу свою погубит её а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную» (Ин. 12:24-25). Кто не хочет погубить душу свою, те пусть же пребывают в геенне, в неугасимом огне эпохэ, «где червь их не умирает, и огонь их не угасает».
Итак, исходная точка – полное доверие и полная в о л е в а я победа над тяготением к плотяности, над колебаниями, удерживающими от подъёма ввысь, от пленения рассудка в послушание вере. Обливаясь кровью, буду говорить в напряжении: «Credo, quia absurdum est. Ничего, ничего не хочу своего, – не хочу даже рассудка. Ты один, – Ты только. Dic animae meae: salus tua Ego sum! Впрочем, не моя, а Твоя воля да будет. Троице Единице, помилуй мя!»
Эта необходимая стадия л и ч н о г о развития – в истории Ц е р к в и типически представлена II-м веком и невольно связывается с именем Т е р т у л л и а н а, всею своею пламенною личностью в чистоте выразившего первую ступень веры: Credo quia absurdum.
[Примеч. П.Фл.: Знаменитое Credo, quia absurdum схематически передаёт собственно лишь мысль Тертуллиана. Подлинное же изречение гласит: Mortuus est Dei filius, credible est, quia inseptum est; et sepultus revisit, certum est quia impossible est – что умер Сын Божий, это достоверно, потому что нелепо; что Он, погребённый, воскрес, несомненно, потому что это невозможно.]
В е р ю вопреки стонам рассудка, верю именно потому, что в самой враждебности рассудка к вере моей усматриваю залог чего-то нового, чего-то неслыханного и высшего. Я не спущусь в низины рассудка, какими бы страхами он ни запугивал меня. Я видел уже, что оставаясь при рассудке я гибну в эпохэ; я хочу быть теперь б е з р а с с у д н ы м. А на льстивые уверения его я крикну: «Лжёшь! слышал тысячу раз уже!», и пусть тогда свистнет безжалостный бич.
Блажен, кто сохранил ещё знаменованье
обычаев отцов, их тёмного преданья,
ответствовал слезой на пение псалма;
к т о в о л е й о т о р в а в с о м н е н и я у м а,
святую Библию читает с умиленьем,
и, вняв церковный звон, в ночи, с благоговеньем,
с молитвою зажег пред образом святым
свечу заветную, и плакал перед ним.
Затем, поднявшись на новую ступень, обеспечив себе невозможность соскользнуть на рассудочную плоскость, я говорю себе: Т е п е р ь я верю и надеюсь понять то, во что я верю. Т е п е р ь бесконечное и вечное я не превращу в конечное и временное, высшее единство не распадётся у меня на несовместимые моменты. Т е п е р ь я вижу, что вера моя есть источник высшего разумения, и что в ней рассудок получает себе глубину». И, отдыхая от пережитой трудности, я, спокойно, повторяю за А н с е л ь м о м Кентерберийским: «Credo ut intelligam. Сперва мне казалось, будто я нечто «знаю»; после перелома стал «верить». Теперь же я знаю, потому что верю».
Нужно было 9 веков человечеству, чтобы прийти к такому состоянию. И.сказав, я перехожу на третью ступень. Я уразумеваю веру свою. Я вижу, что она есть поклонение «Ведомому Богу», что я не только верю, но и знаю. Границы знания и веры сливаются. Тают и текут рассудочные перегородки; весь рассудок претворяется в новую сущность. И я, радостный, взываю: Intelligo ut credam! Слава Богу за всё. «Теперь мы видим, как бы, сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же – лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно тому, как я узнал себя самого (1 Кор 13:12). – Человечеству нужно было ещё 9 веков, чтобы подняться на эту ступень (ЛР).
Таковы три стадии веры, – как в фило-генезисе, так и в онто-генезисе. Но, описывая их, я забежал вперёд. Необходимо оборотиться и раскрыть, в чём же заключается последняя стадия веры во Св. Троицу, – другими словами, как в д е й с т в и т е л ь н о с т и переживается истинность догмата, как разрешается эпохэ.
Подвигом веры преодолена, побеждена и ниспровергнута рассудочная «нелепость» догмата. Сознано, что в нём – источник знания. Но конечною целью является ведь д а н н о с т ь его. Последняя имеет, – в условиях земной жизни, – д в е ступени: ведение символическое и ведение непосредственное, – хотя и не всецелостное.
Подвиг веры – в том, чтобы от данной ассерторической (утверждающей - Л.Р.) истины мира перейти к аподиктической (обязывающей - Л.Р.), – но ещё не данной, – Истины догмата, – сомнительное, хотя и наличное, «здесь» предпочесть достоверному, но ещё не наличному «там».
Закон тождества и его высшая форма поняты нами в их возможножности. Требование воспринимать д е й с т в и т е л ь н о с т ь э т о й в о з м о ж н о с т и означает необходимость выйти из области понятий в сферу живого о п ы т а. Разумная интуиция и была бы последним все-разрешающим звеном в цепи выводов. Б е з неё мы вращаемся в области п о с т у л а т о в и п р е д п о с ы л о к достоверного познания, – правда, неизбежных, но не видим, удовлетворяются ли они. Вся цепь, закинутая к небу, на мгновение повисла в воздухе, на миг затвердела в стоячем положении. Но ведь если она не зацепится «там», то со зловещим лязгом и грохотом падёт обратно на нашу голову. Или, быть может, Истины вовсе нет? – Тогда в с я действительность обращается в абсолютно-бессмысленный и безумный кошмар (ЛР), а мы вынуждены от разумной, но мучительной эпохэ перейти к безумной и уж до конца мучительной агонии, вечно задыхаясь, вечно умирая без Истины.
Так или иначе, но между Триединым христианским Богом и умиранием в безумии tertium non datur. Обрати внимание: я пишу это не преувеличенно, а до точности; у меня даже слов не хватает выразиться ещё резче. Между вечною жизнью в недрах Троицы и вечною смертью второю н е т промежутка, хотя бы в волосок.
И л и то, и л и другое. В самом деле: рассудок, в своих конститутивных логических нормах, и л и насквозь нелеп, безумен до тончайшей своей структуры, сложен из элементов бездоказательных и потому вполне случайных, и л и же он имеет своею основою сверх-логическое. Что-нибудь одно: и л и нужно принять принципиальную случайность законов логики, и л и же неизбежно признание сверх-логической основы этих норм, – основы, с точки зрения самого рассудка, постулативно-необходимой, но тем самым имеющей д л я р а с с у д к а антиномический закал. И то и другое выводит з а пределы рассудка. Но первое разлагает рассудок, внося в сознание вечно-безумную агонию, а второе укрепляет его подвигом само-преодоления, – крестом, который есть для рассудка нелепое отторжение себя от себя. Вера, которою спасаемся, есть начало и конец креста и со-распинания Христу. Но вера, – то, что называется «разумная», – т.е. «с доказательствами от разума», вера по толстовской формуле: «Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне, как необходимость разума» – такая вера есть заскорузлый, злой, жёсткий и каменный нарост в сердце, который не допускает его к Богу, – крамола против Бога, чудовищное порождение человеческого эгоизма, желающего и Бога подчинить себе.
Много есть родов безбожия, но худший из них – так именуемая «разумная», или, точнее, рассудочная вера. Х у д ш и й, ибо кроме непризнания объекта веры («вещей н е в и д и м ы х») она, к тому же, являет в себе лицемерие, признаёт Бога, чтобы отвергнуть самое существо Его, – невидимость, т.е. сверхрассудочность. «Что есть “разумная вера”?» – спрашиваю себя. Отвечаю: «“Разумная вера” есть гнусность и смрад пред Богом». Не поверить, доколе не отвергнешься себя, с в о е г о закона. А “разумная вера” именно и не желает отвергнуться самости, да вдобавок утверждает, что она ведает Истину. Но, не отвергшись себя, она может иметь у себя т о л ь к о себя. Истина через себя познаётся, – не иначе; чтобы узнать Истину, надо иметь её, а для этого необходимо перестать быть т о л ь к о собою и причаститься самой Истины.
“Разумная вера” есть начало диавольской гордыни, желание не п р и н я т ь в себя Бога, а в ы д а т ь с е б я за Бога, – самозванство и самовольство. Отказ для Бога от м о н и з м а в мышлении и есть начало веры.
М о н и с т и ч е с к а я н е п р е р ы в н о с т ь – таково знамя крамольного рассудка твари, отторгающегося от своего Начала и корня и рассыпающегося в прах само-утверждения и само-уничтожения. Д у а л и с т и ч е с к а я п р е р ы в н о с т ь – это знамя рассудка, погубляющего себя ради своего начала и в единении с Ним получающего своё обновление и свою крепость. В противоположении двух паролей – противоположение твари, дерзнувшей возжелать стать на место Творца и неизбежно низвергающейся из Него в агонию вечного уничтожения, и твари, со смирением принимающей от Истины вечное обожение: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему».
Но – т а к, если И с т и н а с у щ е с т в у е т. Последнее условие, как застава у моста, стоит при переходе в область Истины. Между пройденною уже областью знания в понятиях, знания о б И с т и н е (постулативного, а потому и предположительного) и предполагаемою, требуемою областью знания в интуиции, знания И с т и н ы (существенного, включающего в себя своё обоснование, а потому и абсолютного) лежит б е з д н а, которую нельзя обойти никакими обходами, чрез которую нет сил прыгнуть никакими усилиями. Ведь надобно стать на вполне новую землю, о которой у нас нет и помину. Мы даже не знаем, есть ли в действительности эта новая земля, – не знаем, ибо блага духовные, которых ищем мы, лежат в н е области плотского познания: они – то, «чего око не видело и ухо не слышало, и что на сердце человеку не восходило»(1 Кор.2:9; ср. Ис.64:4). Но мостом, ведущим к у д а - т о, – может быть, на т о т, предполагаемый край бездны, к Эдему неувядающих радостей духовных, а, может быть, и никуда не ведущим, является в е р а. Нам надо и л и умирать в агонии на нашем краю бездны, и л и идти на авось и искать «новой Земли», на которой «живёт Правда» (2 Петр. 3:12). Мы свободны выбрать, но мы должны решиться
л и б о на то, л и б о на другое. И л и поиски Троицы, и л и умирание в безумии. Выбирай, червь и ничтожество: tertium non datur!
Может быть, именно в созерцании неизбежности такого выбора у Блеза П а с к а л я возникла мысль о пари на Бога. С одной стороны – в с ё, но ещё не верное; с другой – н е ч т о, глупцу кажущееся ч е м - т о, но для познавшего его подлинную стоимость делающееся абсолютно ничем без т о г о и – всем, если будет найдено т о. В самой наглядной форме идея такого пари была высказана одним лавочников: он понавешал у себя множество лампад, крестов и всякой святыни. Когда же какой-то «интеллигент» стал по этому поводу высказывать свой скептицизм, то лавочник выразился так: «Э, барин! Мне всё это пятьдесят рублей стоит в год, – прямо ничто для меня. А ну, как пойдёт в дело!» – Конечно, такая формулировка «пари Паскаля» звучит грубо, даже цинично. Конечно, даже у самого Паскаля она может казаться чересчур расчётливой. И, тем не менее, общий смысл этого пари, всегда себе равный, – несомненен: стоит верное ничто обменять на неверную Бесконечность, тем более, что в последней меняющий может снова получить своё ничто, но уже как нечто: однако, если для отвлечённой мысли выгодность такого обмена ясна сразу, то перевести эту мысль в область конкретной духовной жизни удаётся не сразу: как раненый зверь защищает себя уличённая самость.
Само-утверждающийся языческий рассудок уже давно толковал, что обетования Христовы недоказуемы, так как они относятся к б у д у щ и м благам. Но на это А р н о б и й отвечает, что из двух недостоверных вещей ту, которая даёт нам надежду, всегда надо предпочитать той, которая нам не даёт её.
Человек мыслящий уже понял, что на этом берегу у него нет н и ч е г о. Но ведь вступить на мост и пойти по нему! Нужно усилие, нужна затрата силы. А вдруг эта затрата ни к чему? Не лучше ли быть в предсмертных корчах тут же, у моста? Или идти по мосту, – может быть, идти всю жизнь, вечно ожидая другого края? Что лучше: в е ч н о умирать, – в виду, быть может, обетованной страны – замерзать в ледяном холоде абсолютного ничто и гореть в вечной огневице пирронической эпохэ; или истощать последние усилия, быть может, ради миража, который будет удаляться по мере того, как путник делает усилие приблизиться? – Я остаюсь, я остаюсь з д е с ь.
Но мучительная тоска и внезапная надежда не дают даже издыхать спокойно. Тогда я вскакиваю и бегу стремительно. Но холод столь же внезапного отчаяния подкашивает ноги, бесконечный страх овладевает душою. Я бегу, стремительно бегу назад.
Идти и не идти, искать и не искать, надеяться и отчаиваться, бояться истратить последние силы. И, из-за этой боязни, тратить их вдесятеро, бегая взад и вперёд. Где выход? Где прибежище? К кому, к чему кинуться за помощью? «Господи, Господи, е с л и Ты существуешь, помоги безумной душе, Сам приди, Сам приведи меня к Себе! Хочу ли я, или не хочу, спаси меня. Как можешь и как знаешь дай мне увидеть Тебя. Силою и страданиями привлеки меня!»
В этом возгласе предельного отчаяния – начало новой стадии философствования, – начало живой в е р ы. Я не знаю, есть ли истина, или нет её. Но я всем нутром ощущаю, что н е м о г у без неё. И я знаю, что е с л и о н а е с т ь, то она – всё для меня: и разум, и добро, и сила, и жизнь, и счастье. Может быть, нет её, но я люблю её, – люблю больше, нежели всё существующее. К ней я уже отношусь, как к существующей, и её, – быть может, не существующую, – люблю всею душою моею и всем помышлением моим. Для неё я отказываюсь от всего, – д а ж е о т с в о и х в о п р о с о в и о т с в о е г о с о м н е н и я. Я, сомневающийся, веду себя с нею, как не сомневающийся. Я, стоящий на крае ничтожества, хожу, как если бы я уже был на другом крае, в стране реальности, оправданности и ведения. Трояким подвигом веры, надежды и любви преодолевается косность закона тождества. Я перестаю быть Я, м о я мысль перестаёт быть м о е ю мыслью; н е п о с т и ж и м ы м а к то м отказываюсь от само-утверждения «Я=Я». Ч т о - т о или К т о - т о гасит во мне идею, что Я – ц е н т р философских исканий, и я ставлю на это место идею о самой Истине.
Будучи ничем, но единственным д а н н ы м мне, я, себе данный, непостижимо для себя самого отказываюсь от этого единственного своего достояния, приношу Истине ту единственную жертву, которая предоставлена мне, но и её-то приношу опять не своею силою, а силой самой Истины; как ранее греховная самость ставила себя на место Бога, так теперь помощью Божией я ставлю на место себя Бога, мне ещё не ведомого, но чаемого и любимого. Я отказываюсь от боязливого опасения, что со мною будет, и решительным взмахом делаю себе операцию. Я покидаю край бездны и твёрдым шагом вбегаю на мост, который, быть может, провалится подо мною.
Свою судьбу, свой разум, самую душу всего искания – требование достоверности я вручаю в руки самой Истины (ЛР). Ради неё я отказываюсь от доказательства. В том-то и трудность подвига, что приносишь в жертву самое заветное – последнее – и знаешь, что если и э т о обманет, если и э т а жертва окажется тщетною, то тогда деваться некуда. Ведь она – последнее средство. Если самой Триединой Истины не оказалось, то где же искать её? И, при вступлении на мост веры, новая углублённость открывается в словах Послания к евреям: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»(11:4) – в тех самых словах, которые ранее были для рассудка столь неприемлемо противоречивыми.
[. . .]
ПИСЬМО ЧЕТВЁРТОЕ: СВЕТ ИСТИНЫ.
В самой вере я неожиданно нашёл для себя первый намёк на искомое мною. Как бывает в феврале: улыбнётся ясною-ясною улыбкою примытое солнышко; повеет мягкий ветерок; хотя до весны-то далеко, но
природа
сквозь сон встречает утро года, –
пахнет чем-то вешним. Так и в молитве. Сделав усилие над собою ради любви к истине, я вступил с Истиною в личное, живое общение (– неохотно добавляю казённое: если только Она есть вообще –). Я отказался от себя и тем самым нарушил низший закон тождества, потому что перестало быть голое «Я!». Явилось какое-то укрепление Я, но – в новом смысле. То Я, которое требовало доказательств, начало н е я с н о в о с п р и н и м а т ь э т о доказательство, начало чувствовать, что доказательство будет. Как после болезни, получилось некоторое восстановление. Доносилась уже бодрящая свежесть и отдалённый прибой самой Вечности; я шёл как в пред-утреннем тумане и разглядывал неясные облики самой Истины. Мне почему-то хочется сравнить состояние своё с тем, как если бы тело превратилось в мягкий воск и по всем жилам разлилось молоко: ведь так именно бывает после долгой молитвы с поклонами. Кажется, смешно выходит моё сравнение, но лучшего не подберу. С этим как-то связалась любовь к людям, и в л ю б в и я нашёл н а ч а л ь н у ю стадию давно-желанной интуиции.
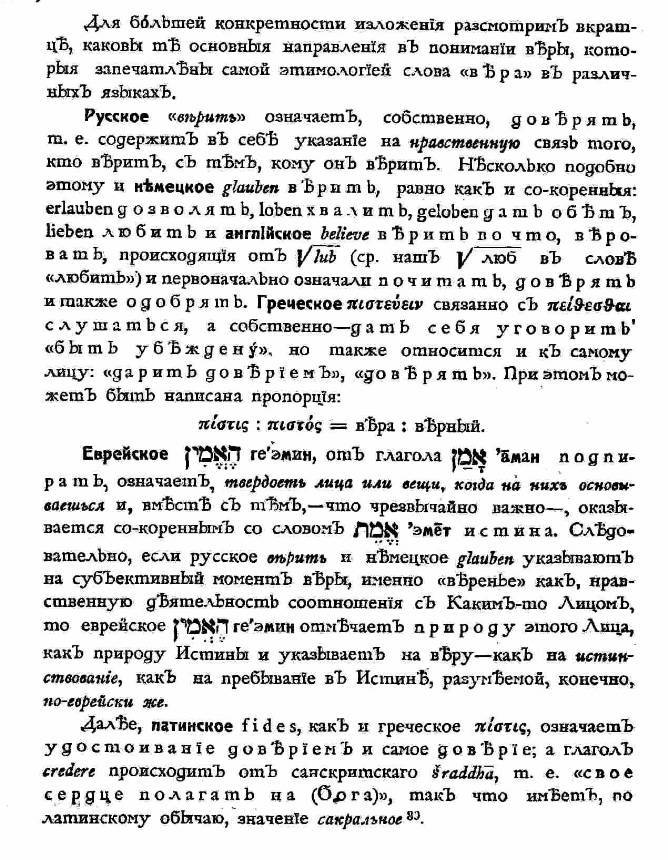 Если есть Бог – а для меня это делалось несомненным – то Он, необходимо, есть абсолютная любовь. Но любовь есть не п р и з н а к Бога. Бог не был бы абсолютною любовью, если бы был любовью только к другому, к условному, к тленному, к миру; ведь тогда любовь Божия была бы в зависимости от бытия условного и, следовательно, сама была бы случайна. Бог есть существо абсолютное потому, что Он – субстанциальный акт любви, акт – субстанция. Бог или Истина не только и м е е т любовь, но, прежде всего, «Бог е с т ь любовь – о Теос агапэ естин» (1 Ин. 4:8,16), т.е. любовь – это сущность Божия, собственная Его природа, а не только Ему присущее промыслительное Его отношение. Другими словами, «Бог есть л ю б о в ь» (точнее – «Любовь»), а не только «Любящий», хотя бы и «совершенно».
Если есть Бог – а для меня это делалось несомненным – то Он, необходимо, есть абсолютная любовь. Но любовь есть не п р и з н а к Бога. Бог не был бы абсолютною любовью, если бы был любовью только к другому, к условному, к тленному, к миру; ведь тогда любовь Божия была бы в зависимости от бытия условного и, следовательно, сама была бы случайна. Бог есть существо абсолютное потому, что Он – субстанциальный акт любви, акт – субстанция. Бог или Истина не только и м е е т любовь, но, прежде всего, «Бог е с т ь любовь – о Теос агапэ естин» (1 Ин. 4:8,16), т.е. любовь – это сущность Божия, собственная Его природа, а не только Ему присущее промыслительное Его отношение. Другими словами, «Бог есть л ю б о в ь» (точнее – «Любовь»), а не только «Любящий», хотя бы и «совершенно».
В этом положении – вершина теоретического («отрицательного») познания и перевал к практическому («положительному»). Доселе каждое суждение сопровождалось своею неизбежною тенью, – условием: «Если только Бог вообще есть». Теперь, в свете знания интуитивно-дискурсивного, эта тень тает и расплывается. Но вместе с нею исчезает и возможность убеждать, потому что пришла пора подвижничества. Тут можно только обще наметить некоторые черты этого н о в о г о пути, но только личным опытом каждый может убедиться в правильности всего дальнейшего. То, что для пережившего является уже абсолютным ведением, для теоретика представляется лишь продолжением пробабилизма. Но у философа experimentum crucis (решающий эксперимент - Л.Р.) произведён. Его предположительное построение и л и оказалось Истиною, и тогда – истиною достоверною, и л и же – пустым домыслом. Но, если и э т о построение ложь, то в о о б щ е н е т И с т и н ы; в таком случае самое положение о ложности не может быть истинным и т.д. Философ впадает в эпохэ и вынужден начинать всё сначала, мучиться, снова пробовать и верить, вечно верить, – верить до муки и до смерти. Не может успокоиться на простом нигилизме тот, кто хочет Истины. «Верь в Истину, надейся на Истину, люби Истину» – вот голос самой истины, неизменно звучащий в душе философа. И если бы его постигла неудача с первою попыткою веры, он с удвоенною решимости взялся бы за неё снова. – Впрочем, всё это пишу более для формального ответа на вопрос «А если..?», нежели по существу, ибо опыт доказывает, что вера в с е г д а удаётся. Как говорит Единственная Книга про Авраама: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (Быт. 15:6 = Рим.4:3) – послушался таинственного зова Неведомой Истины, «верою повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошёл, н е з н а я, к у д а и д ё т. Верою обитал он на земле обетованной, как на ч у ж о й» (Евр. 11:8-9).
Как Авраам, так – и другие праведники (см. Евр.11). «И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, т.е. к небесному; посему и Бог не стыдился их, называя себя их Богом» (Евр. 11:15-16). Вот опыт истории. Праведники беззаветно стремились к «Невидимому», т.е. им не данному Небу, и Небо приняло их. И философ, стремясь к Истине, не вернётся ни к идоло-поклонству слепой интуиции, ни к самоволию горделивой дискурсии; нет, он не оставит стремления своего к ВЕДОМОМУ БОГУ.
Но присмотримся ближе, как и в силу чего принимает философа Небо.
Что бы мы ни думали о человеческом р а з у м е, но для нас загодя есть возможность утверждать, что он – орган человека, его живая деятельность, его реальная сила, логос. В противном же случае, в случае признания его «самим по себе» и потому – чем-то ирреальным – дианойа, – мы неизбежно обречены на столь же бесспорное и наперёд предрешённое отрицание реальности знания. Ведь если разум непричастен бытию, то и бытие непричастно разуму, т.е. алогично. Тогда неизбежен иллюзионизм и всяческий нигилизм, кончающийся дряблым и жалким скептицизмом. Единственный выход из этого болота относительности и условности – признание разума причастным разумности. А если – так, то акт познания есть акт не только гносеологический, но и онтологический, не только идеальный, но и реальный. Познание есть реальное в ы х о ж д е н и е познающего из себя или, – что то же, – реальное в х о ж д е н и е познаваемого в познающего, – реальное единение познающего и познаваемого. Это основное и характерное положение всей русской и, вообще, восточной философии. Мы его получили ранее несколько иным и более твёрдым путём, прямо указывая на сердце и душу этого «выхождения из себя», как на акт в е р ы в религиозном, в православном смысле, ибо и с т и н н о е «выхождение» есть именно в е р а, всё же прочее может быть мечтательным и прелестным. Итак, познание не есть захват мёртвого объекта хищным гносеологическим субъектом, а живое нравственное о б щ е н и е личностей, из которых каждая для каждой служит и объектом и субъектом. В собственном смысле познаваема только личность и только личностью.
Другими словами, с у щ е с т в е н н о е п о з н а н и е, разумеемая как познаваемый реальный объект, – обе они – одно и то же реально, хотя и различаются в отвлечённом рассудке.
Существенное познание Истины, т.е. приобщение самой Истины, есть, следовательно, реальное вхождение в недра Божественного Триединства (ЛР), а не только идеальное касание к внешней форме Его. Поэтому, истинное познание, – познание Истины, – возможно только чрез п р е с у щ е с т в л е н и е человека, чрез обожение его, чрез стяжание любви, как Божественной сущности: кто не с Богом, тот не знает Бога. В любви и только в любви мыслимо действительное познание Истины. И наоборот, познание Истины обнаруживает себя любовью: кто с Любовью, тот не может не любить. Нельзя говорить здесь, что причина и что следствие, потому что и то, и другое – лишь с т о р о н ы одного и того же таинственного факта, – вхождения Бога в меня, как философствующего субъекта, и меня в Бога, как объективную Истину.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Истина есть интуиция, которая доказуема, т.е. дискурсивна. Чтобы быть дискурсивною, интуиция должна быть интуицией не слепой, не тупо-ограниченной, а уходящею в бесконечность, – интуицией, так сказать, говорящей, разумной. Чтобы быть интуитивною, дискурсия должна быть не уходящею в беспредельность, не возможною только, а действительною, актуальною.
Д и с к у р с и в н а я и н т у и ц и я должна содержать в себе синтезированный бесконечный ряд своих обоснований; и н т у и т и в н а я ж е д и с к у р с и я должна синтезировать весь свой беспредельный ряд обоснований в конечность, в единство, в единицу. Д и с к у р с и в н а я и н т у и ц и я есть интуиция дифференцированная до бесконечности; и н т у и т и в н а я ж е д и с к у р с и я есть дискурсия интегрированная до единства.
Итак, если истина есть, то она – реальная разумность и разумная реальность; она есть конечная бесконечность и бесконечная конечность, или, – выражаясь математически, – а к т у а л ь н а я б е с к о н е ч н о с т ь, – Бесконечное, мыслимое как цело-купное Единство, как единый, в себе законченный Субъект. Но законченная в себе, она несет с собою всю полноту бесконечного ряда своих оснований, глубину своей перспективы. Она – солнце, и себя и всю вселенную озаряющее своими лучами. Бездна её есть бездна мощи, а не ничтожества. Истина – движение неподвижное и неподвижность движущаяся. Она – единство противоположного. Она – coincidentia oppositorum.
Раз так, то скепсис, действительно, не может уничтожить истины и, действительно, она – «сильнее всего», она всегда даёт скепсису оправдание себя, она – всегда «ответчива». Н а к а ж д о е «почему?» есть ответ, и, при том, все ответы эти даны не разрозненно, не внешне сцепляясь один с другим, но свитыми в целостное, изнутри сплочённое единство. Единый миг восприятия Истины даёт её со в с е м и её основаниями (– хотя бы они н и к е м, – нигде и никогда, – не мыслились раздельно!), мгновение ока даёт всю полноту ведения.
Такова абсолютная Истина, буде она существует. В ней должен находить себе оправдание и обоснование закон тождества. Пребывая выше всякого внешнего для себя основания, выше закона тождества, Истина обосновывает и доказывает его. И, вместе с тем, в ней – объяснение, почему бытие неподвластно этому закону.
Пробабилистически - предположительное построение ведёт к утверждению Истины, как само-доказательного Субъекта, – такого Субъекта, qui per ipsum concpiritur et demostratur, который через себя постигается и доказуется, – Субъекта, который безусловно Господин себе, Господь, владеет синтезированным в единство и даже в единичность бесконечным рядом в с е х своих обоснований, господствует над всеми своими основаниями. Мы не можем конкретно мыслить такого Субъекта, ибо не можем синтезировать бесконечный ряд во всей его целокупности; на пути последовательных синтезов мы всегда будем видеть лишь конечное и условное. Прибавляя сколько угодно раз к конечному числу конечное же число, мы не получим ничего, кроме числа конечного. Подымаясь на горы всё выше и выше, – воспользуюсь образом Канта, – мы тщетно надеялись бы достигнуть рукою небо; и безумны расчёты на вавилонскую башню. Точно так же и в с е н а ш и у с и л и я всегда будут давать только синтезируемое, но никогда – осинтезированного. Бесконечная Единица трансцендентна для человеческих достижений.
Если бы в сознании у нас о к а з а л о с ь реальное восприятие такого само-доказательного Субъекта, то оно было бы именно ответом на вопрос скепсиса и, следственно, уничтожением эпохэ. Если эпохэ вообще разрешима, то только таким уничтожением, разгромом, – если угодно, полновластным удовлетворением; но её решительно нельзя просто о б о й т и и л и у с т р а н и т ь. Попытка пренебречь эпохэ непеременно является логическим фокусом, – не более, и в тщетном стремлении произвесть такой фокус загублены все догматические системы, не исключая и Кантовой.
В самом деле, если не удовлетворено условие интуитивной конкретности, то Истина будет лишь пустою возможностью; если же не удовлетворено условие разумной дискурсивности, то истина является не более, как слепою данностью. Только осуществлённый независимо от нас конечный синтез бесконечности может дать нам р а з у м н у ю д а н н о с т ь или, другими словами, само-доказуемый Субъект.
Имея все основания себя и явления себя нам – в себе же, т.е. имея все основания с в о е й р а з у м н о с т и и с в о е й д а н н о с т и – в себе, он само - обосновывается не только в порядке разумности, но и в порядке даннocти. Он – causa sui как по сущности, так и по существованию, т.е. он – не только per se concpiritur et demonstrator, но и per se еst. Он – «чрез себя есть и чрез себя познаётся». Это хорошо понимали схоластики.
Так, по определению А н с е л ь м а К е н т е р б е р и й с к о г о Бог – “per se ipsum ens”, “ens per se”. По замечанию Ф о м ы А к в и н с к о г о природа Бога “per se nessese esse”, ибо она “prima causa essendi, non habens ab alio esse”. – Вот более точное определение смысла этого “per se”: “Per se ens est, quod separatium absque adminicolo alternius existit, seu quod non est in subjecto inhaesionis: quod non est hoc modo per se accidents”.
Это разумение Бога, как само-сущего и само-разумного, красною нитью проходит чрез всю схоластическую философию и своё крайнее, но одностороннее применение находит в философии С п и н о з ы; по третьему определению Спинозовской «Э т и к и», налагающему своеобразный отпечаток на всю систему его, субстанция именно и есть то, что само-суще и само - разумно: “Per substantian intelligo id, quod in se est et per se concpiritur”.
Само-доказуемый Субъект! Формально мы можем утверждать, что эта «Бесконечная Единица» всё объясняет, потому что дать объяснение чему-нибудь, это значит, во первых, показать, как оно не противоречит закону тождества и, во вторых, как данность закона тождества не противоречит возможности его обоснования.
Встаёт, однако, новый вопрос. Как некое откровение в нашем восприятии явила себя (– допустим! –) синтезированная в конечную интуицию бесконечность ряда оснований. Пусть так. Но к а к ж е, и м е н н о, эта интуиция дала бы обоснование закону тождества со всеми его нарушениями?
Прежде всего, как возможна множественность со-существования (разногласие, вне-положность) и множественность последования (изменение, движение)? Другими словами, как временно-пространственная множественность не нарушает тождества?
– Она не нарушает тождества т о л ь к о в том случае, если множество элементов абсолютно синтезировано в Истине, так что «другое», – в порядке сосуществования и в порядке последования, – есть в то же время и «не другое» sub specie aeternitatis, – если этеротэс, «инаковость», отчуждённость «другого» есть только выражение и обнаружение тавтотэс, тождественности «этого же».
Если «другой» момент времени не является уничтожающим и пожирающим собою «этот», но, будучи «другим», он есть в то же время «этот», т.е. если «новое», открывающееся к а к н о в о е, есть «старое» в его вечности, если в н у т р е н н я я с т р у к т у р а вечного: «этого» и «другого», «нового» и «старого» в их реальном единстве такова, что «это» д о л ж н о появиться в н е «другого» и «старое» – р а н е е «нового», если, – говорю, – «другое» и «новое» является таковым не чрез себя, а чрез «это» и «старое», а «это» и «старое» суть то, что они суть, не чрез себя, а чрез «другое» и «новое», если, наконец, каждый элемент бытия есть только член субстанционального отношения, о т н о ш е н и я - с у б с т а н ц и и, то тогда закон тождества, вечно нарушаемый, вечно восстановляется самым своим нарушением.
Последним положением, зараз, даётся ответ и на старый вопрос, а именно: «Как возможно, что всякое А есть А?». Да, в таком случае из самого закона тождества течёт источник, разрушающий тождество, но зато это разрушение тождества есть мощь и сила вечного его восстановления и обновления. Тождество, мёртвое в качестве ф а к т а, может быть и непременно будет живым в качестве а к т а. Закон же тождества тогда окажется не всеобщим законом бытия, так сказать, поверхностного, а поверхностью бытия глубинного, – не геометрическим образом, а внешним обликом недоступной рассудку глубины ж и з н и; и в этой ж и з н и он может иметь свой к о р е н ь и своё о п р а в д а н и е. Слепой в своей данности закон тождества может быть разумен в своей созданности, в соей вечной создаваемости; плотяный, мёртвый и мертвящий в свое статике, он может быть духовным, живым и живо-творящим в своей динамике. На вопрос: «Почему А есть А?» отвечаем: «Потому А есть А, что вечно бывая не-А, в этом не-А оно находит своё утверждение как А». Точнее: А потому есть А, что оно есть не-А. Не будучи равно А, – т.е. самому себе, – оно в вечном порядке бытия всегда устанавливается силою не-А, как А. Впрочем, об этом речь будет далее.
Таким образом, закон тождества получит обоснование не в своём низшем, рассудочном виде, но в некотором высшем, разумном. Эта «в ы с ш а я ф о р м а з а к о н а т о ж д е с т в а» – основное открытие о. архимандрита С е р а п и о н а М а ш к и н а; впрочем, ценность открытия обнаруживается только при конкретной разработке системы философии.
Вместо пустого, мёртвого и формального само-тождества «А=А», в силу которого А должно было бы самостно, само-утвержденно, эгоистически исключать всякое не-А, мы получили содержательное, полное жизни, реальное само-тождество А, как вечно отвергающегося себя и в своём само-отвержении вечно получающего себя. Если в первом случае А есть А (А=А) вследствие исключённости из него в с е г о (– и е г о с а м о г о в е г о к о н к р е т н о с т и! –), то теперь А есть А чрез утверждение себя как не-А, чрез усвоение и уподобение себе всего.
Отсюда понятно, к а к ов само-доказательный Субъект и в ч ё м его само-доказательность, – если только вообще он есть.
Он таков, что он есть А и не-А. Обозначим для ясности не-А чрез Б. Что же – Б? Б есть Б; но оно само было бы с л е п ы м Б, если бы не было вместе и не-Б. Что же такое не-Б? Если оно – просто А, то А и Б были бы тождественны. А, будучи А и Б, было бы одним только простым, голым А, равно как и Б. (Как увидим, в ересеологии это соответсвует модализму, саввелинству и т.п.). Чтобы не было простого тождесловия «А=А», чтобы было р е а л ь н о е равенство «А есть А, ибо А есть не-А», необходимо, чтобы Б само было реальностью, т.е. чтобы Б было зараз и Б и не-Б; последнее, т.е. не-Б для ясности обозначим чрез В. Чрез В круг может замкнуться, ибо в его «другом», – в «не-В», – А находит себя как А. В Б переставая быть А, А от д р у г о г о, но не от этого, которому приравнивается, т.е. от В, опосредовано получает себя, но уже «доказанным», уже установленным. То же относится и к каждому из субъектов А, Б, В троичного отношения.
Само-доказательность и само-обоснованность Субъекта Истины Я есть отношение к Он чрез Ты. Чрез Ты субъективное Я делается объективным Он, и в последнем имеет свое утверждение, свою предметность как Я. Он есть явленное Я. Истина созерцает Себя чрез Себя в Себе. Но каждый момент этого абсолютного акта сам абсолютен, сам есть Истина. Истина – созерцание Себя чрез Другого в Третьем: Отец, Сын, Дух. Таково метафизическое определение «сущности – усиа».
Само-доказательность и само-обоснованность Субъекта Истины Я есть о т н о ш е н и е к О н ч р е з Т ы. Чрез Т ы субъективное Я делается объективным О н, и в последнем имеет своё утверждение, свою предметность как Я. Он есть явленное Я. Истина созерцает Себя чрез Себя в Себе. Но каждый момент этого абсолютного акта сам абсолютен, сам есть Истина. Истина – созерцание Себя чрез Другого в Третьем: Отец, Сын, Дух. Таково метафизическое определение «сущности – усия» само-доказательного Субъекта, которая есть, как видно, субстанциональное отношение. Субъект Истины есть о т н о ш е н и е Т р ё х, но – отношение, являющееся субстанциею, отношением-субстанциею. Субъект Истины есть Отношение Трёх. А так как конкретное отношение вообще есть система актов жизнедеятельности, в данном же случае – б е с к о н е ч н а я с и с т е м а а к т о в, с и н т е з и р о в а н н ы х в е д и н и ц у или, ещё, б е с к о н е ч н ы й е д и н и ч н ы й а к т, то мы можем утверждать, что усия Истины есть Б е с к о н е ч н ы й а к т Т р ё х в Е д и н с т в е. Потом мы конкретнее объясним этот бесконечный акт Жизни.
Но что такое каждый из «Трёх» в отношении к б е с к о н е ч н о м у а к т у – с у б с т а н ц и и?
Реально это не то, что весь Субъект, и реально же – это то же, что и весь Субъект. В виду необходимости дальнейших рассуждений мы назовём его, – как «не то», – «и п о с т а с ь ю - ипостасис», тогда как ранее уже установили мы термин «с у щ н о с т ь - усия» – для обозначения его как «то же». –
Следовательно, Истина есть единая сущность о трёх ипостасях. Не три сущности, но одна; не одна ипостась, но три. Однако, при всём том, и п о с т а с ь и с у щ н о с т ь – о д н о и т о ж е. Выражясь несколько не точно, скажу: «Ипостась – абсолютная личность». Но, спрашивается: «В чём же личность, как не в сущности?». И ещё: «Разве даётся сущность иначе как в личности?». – Да, и всё таки всё предыдущее устанавливает, что не одна ипостась, а т р и, хотя сущность – к о н к р е т н о едина. И потому н у м е р и ч е с к и, числом – о д и н Субъект Истины, а н е т р и.
«Святые и блаженные отцы наши, – пишет авва Т а л а с с и й, – как единое существо Божества триипостасным признают, так св. Троицу единосущною исповедуют. – Единица, простираясь у них до Троицы, пребывает Единицею; и Троица, собираясь в Единицу, пребывает Троицею. И сие чудно. – Сохраняется так у них свойство ипостасей неподвижным и непреложным, и общность сущности, т.е. Божества, нераздельною. Исповедуем Единицу в Троице, и Троицу в Единице, разделяемую нераздельно и совокупляемую разделительно».
«Почему же ипостасей, именно, три?» спросят меня. Я говорю о числе «три», как имманетном Истине, как внутренне неотделимом от неё. Не может быть м е н ь ш е Трёх, ибо только три ипостаси извечно делают друг друга тем, что они извечно же суть. Только в единстве Трёх каждая ипостась получает абсолютное утверждение, устанавливающее её, как таковую. Вне Т р ё х нет ни одной, нет Субъекта Истины. А
б о л ь ш е трёх? – Да, может быть и больше трёх, – чрез принятие новых ипостасей в недра Троичной жизни. Однако, эти новые ипостаси уже не суть члены, на которых держится Субъект Истины, и потому не являются внутренне - необходимыми для его абсолютности; они – условные ипостаси, могущие быть, а могущие и не быть в Субъекте Истины. Поэтому-то их нельзя называть ипостасями в собственном смысле, и лучше обозначить именем обоженных личностей и т.п. Но, кроме того, имеется ещё одна сторона, доселе опущенная нами; впоследствии мы обсудим её со тщанием. А покуда заметим только: в абсолютном единстве Т р ё х нет «порядка», нет последовательности. В трёх ипостасях каждая – непосредственно рядом с каждой, и отношение двух только м о ж е т быть опосредствовано третьей. Среди них абсолютно немыслимо первенство. Но всякая четвёртая ипостась вносит в отношение к себе первых трёх тот или иной п о р я д о к и, значит, с о б о ю ставит ипостаси в неодинаковую деятельность в отношении к себе, как ипостаси четвёртой. Отсюда видно, что с четвёртой ипостаси начинается сущность совершенно новая, тогда как первые три были одного существа.
Другими словами, Троица может быть б е з четвёртой ипостаси, тогда как четвёртая – самостоятельности не имеет. Таков общий смысл троичного числа.
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ: ТРИЕДИНСТВО.
«Троица единосущная м нераздельная, единица триипостасная и соприсносущная» – вот единственная схема, обещающая разрешить эпохэ, если только вообще можно удовлетворить вопросу скепсиса. Лишь её не расплавил бы пирронизм, если бы встретил её осуществлённой в о п ы т е. Если вообще может быть Истина, то вот – путь к ней, при том, единственный. Но проходим ли он на деле, не есть ли он лишь т р е б о в а н и е разума, – хотя и необходимое и неизбежное для разума, – это не ясно. Найдена единственная для разума возможная и д е я и ст и н ы; однако не рискуем ли мы остаться с о д н о ю т о л ь к о и д е е ю – вот вопрос. Истина есть несомненно то, что мы сказали о ней; но есть ли она вообще – мы того не знаем. Этот вопрос стоит на очереди. Но, прежде нежели идти вперёд в исследовании нашего настоящего вопроса, поясню идею Триипостасного Бога, – о котором мы говорили доселе в терминах философских, – языком богословия.
Идея едино-сущия, как известно, выражается термином омоусиос, омоусиус. Около него и из за него происходили, в существе дела, все тринитарные споры. Вглядеться в историю этих прений – значит обозреть все цвета и все оттенки, которыми окрашивалась идея едино-сущия. Но я могу избавить себя от этого труда, сосавшись на «Истории догматических споров» (в примечаниях: список из 10 книг – Л.Р.)
Как известно, ни светская языческая письменность, ни письменность церковная до-никейская не знали различия между словами усия и ипостасис, впоследствии рассматривавшимися как termini technici; в философском словоупотреблении усия безусловно приравнивалась к ипостасис. Так было даже ещё в V в. по Р.Х. Есть все основания думать, что и отцы первого вселенского собора принимали слова «ипостась» и «сущность» в качестве равно-значущих и совсем не имели в виду того различия между ними, которое было внесено позднейшею мыслию. Св. А ф а н а с и й Великий употребляет их как равно-значущие и, даже спустя 35 лет после никейского собора, он решительно утверждает в одном из посланий, что «ипостась есть сущность и не иное что обозначает, как самое существо». На одной почве с Афанасием стояло старое поколение никейцев. А в конце IV-го века бл. И е р о н и м, в послании к папе Дамасу, определённо говорит, что «школа светских наук не знает иного значения слова ипостась, как только сущность (usian)». Но известно также, что в позднейшем богословии тот и другой термин стали различаемы. Р а з л и ч а е м ы – да, но р а з л и ч н ы ли по содержанию? Несомненно, они различаемы друг относительно друга, подобно тому, как «правое» различается в соотношении с «левым»; и «левое» – с «правым», но, – спрашиваю, – различно ли их содержание безотносительно, о себе? Правильно ли утверждение, что один термин (ипостась, ипостасис), тогда как другой (сущность, усия) – общее?
– Тут ответом, прежде всего, может служить то обстоятельство, что выбрана пара слов, всячески совпадающих по содержанию. Почему так? – Только потому, что обозначаемое ими логически разнствует друг с другом лишь о т н о с и т е л ь н о, взаимно, но – не в се б е, н е о с е б е.
Если позволить себе грубое сравнение, содержания рассматриваемых терминов относятся друг к другу, как предмет и его зеркальное отражение, как рука и её дружка, как кристалл право-вращающий и кристалл лево-вращающий и т.д. Во всех этих случаях существенная разность одного объекта от другого воспринимается вполне явственно, но логически н е м о ж е т быть охарактеризована иначе, как чрез ссылку на другой объект: в восприятии даётся не одно и то же, но когда нас спрашивают, в ч ё м же, именно, разность, то мы не можем фактически не отождествить разнствующего и формально вынуждены признать тождественность.
Так – и относительно терминов «ипостась» и «сущность». Ведь «е д и н о - сущие» означает собою к о н к р е т н о е е д и н с т в о Отца и Сына и Духа Св., но никак не единство номинальное; омоусиус у Афанасия и старших никейцев прямо равносильно эк усиас то Патрос. Но если – так, то ипостасис, – так сказать, личная сущность Отца и Сына и Духа Св., поскольку каждый из них рассматривается отдельно от других, – ни мало не сливаясь с другою ипостасис, в то же время неотделима от неё. Если терминологически, формально слово ипостасис стало принципиально - о т л и ч н ы м от усия, то содержательно, по своему логическому значению ипостасис остаётся решительно т е м ж е, что усия. В том-то и выразилось безмерное величие никейских отцов, что они дерзнули воспользоваться вполне тождественными по смыслу речениями, верою победив рассудок, и, благодаря смелому взлёту, получив силу даже с чисто-словесною чёткостью выразить невыразимую тайну Троичности.
Отсюда понятно, что всякие попытки разграничить усия и ипостасис, придать каждому их них с а м о с т о я т е л ь н о е логическое положение, н е взаимно-относительное, в н е контекста догмата, неизбежно должны были вести и вели на деле к рационализированию догмата, к «сечению Несекомого», к так называемому т р и т е и з м у или т р ё х - б о ж н о й ереси. Ещё с древности обвинение в тритеизме висит над головою каппадокийцев. Конечно, оно несправедливо; но оно глубоко знаменательно. Ещё большим уклоном к рационализму ознаменовали себя омиусиане. Омиусиус, или омиус кат усиан значит «т а к о й же сущности», «с т а к о ю же сущностью», и, хотя бы даже ему было придано значение омиус ката панта, «во всём такой же», – всё едино, – оно никогда не может означать нумерического, т.е. численного и конкретного единства, на которое указывает омоусиус. Вся сила таинственного догмата разом устанавливается е д и н ы м словом омоусиус, полно-властно выговоренного на Соборе 318-ти, потому что в нём, в этом слове – указание и на реальное единство, и на реальное же различие. Нельзя вспоминать без благоговейной дрожи и священного ужаса о том, без конца значительном и единственном по философской и догматической важности миге, когда гром «Омоусиус» впервые прогрохотал над Городом Победы. Тут дело шло не о специальном богословском вопросе, а о коренном само-определении Церкви Христовой. И единым словом «омоусиус» был выражен не только христологический догмат, но и духовная оценка рассудочных законов мышления. Тут был на-смерть поражён рассудок. Тут вперыве было объявлено новое начало деятельности разума.
Вспомним, в самом деле, что такое всё христианское жизнепонимание? – Развитие музыкальной темы, которая есть система догматов, догматика. А что есть долгматика? – Расчленённый Символ Веры. А что есть Символ Веры? – Да не иное что, как разросшаяся крещальная формула, – «Во имя Отца и Сына и Св.Духа». Ну, а последняя-то уж, несомненно, есть раскрытие слова омоусиус. Рассматривают ветвистое и широко-сенное древо горчичное жизне-понимания христианского, как разросшееся зерно идеи «е д и н о - с у щ и я», – это не логическая только возможность. Нет, и с т о р и ч е с к и именно так и было. Термин омоусиус и выражает собою это антиномическое зерно христианского жизне-понимания, это е д и н о е имя («во и м я Отца и Сына и Св. Духа», а не «во имена») Т р ё х Ипостасей.
Очагом омиусианского рационализирования были в значительной мере ф и л о с о ф с к и е стремления. Вот почему, аскет и духовный подвижник А ф а н а с и й Великий, к тому же, быть может, по определению свыше не получивший философского образования и, во всяком случае, внутренне порвавший со всем, что – не от веры, математически-точно сумел выразить ускользавшее даже в позднейшую эпоху от точного выражения для умов интеллигентных.
И замечательно, сколько усилий пришлось тратить каппадокийцам, – они гордились своими университетскими годами! – чтобы сопротивляться тянувшей их к тритеизму философской терминологии. «Общность природы (койнониа), согласно смыслу всей терминологии каппадокийцев, – утверждает А.А.Спасский, – ещё не не говорит о реальном бытии сущности и не гарантирует её нумерического единства. Природа в Божестве и в людях может быть едина, но своё конкретное осуществление находит в ипостасях».
Несмотря на этот тритеистический тон своих писаний, каппадокийцы в душе были вполне православны и явно, что внутреннее их разумение шло неизменно далее неточных слов. Как бы исправляясь, в 38-ом письме В а с и л и й Великий заявляет: «Не удивляйся, если говорим, что одно и то же и соединено и разделено, и если представляем мысленно, как бы в гадании, некое новое и необычайное разделение соединённое, и единение разделённое». А Г р и г о р и й Нисский в своём «Большом катехизическом поучении» решительно становится н а д рассудком: «Кто до точности вникает в г л у б и н ы т а и н с т в а, хотя объемлет некоторое скромное по непостижимости понятие бого-ведения, не может однако уяснить словом этой неизречённой глубины таинства: как одно и то же числимо и избегает счисления, и разделено зримо и заключается в единице, и различаемо в ипостаси и не делимо в подлежащем».
Таким образом, последняя формула «единой сущности» и «трёх ипостасей» приемлема лишь постольку, поскольку она одновременно отождествляет и различает термины «ипостась» и «сущность», т.е. поскольку она снова приводится к чисто-мистическому, сверх-логическому учению старо-никейцев или к слову омоусиус.
И напротив, всякая попытка рационально истолковать указанную формулу посредством вложения в термины усия и ипостасис р а з л и ч н о г о содержания неминуемо ведёт либо к савеллианству, либо к тритеизму. Богословие до-афанасьевское – богословие апологетов, опиравшееся на античную философию, впадало в ошибку первого рода (различные виды монархианства), полагая несоразмерный вес в е д и н с т в е Божественной сущности и тем лишая ипостаси собственного их бытия. Оно то субординастически подчиняло Сына и Духа Святого Отцу, то сливало ипостаси. Богословие после-афанасьевское, тоже связавшее себя античными терминами, грешило в сторону прямо противоположную, так как, в противовес апологетическому монархианству, чрезмерно настаивало на с а м о с т о я т е л ь н о с т и ипостасей и тем впадало в тритеизм. Если первое имело склонность обратить в видимость ипостасную множественность Божества, то второе, несомненно, тяготело к уничтожению существенного Его единства.
Равновесие обоих начал – у А ф а н а с и я. Его богословие – это та точка, где погрешность, прежде чем перейдёт с «–» на «+», делается строго нулём. И потому Афанасий Великий, можно сказать, – исключительный носитель церковного сознания касательно рассматриваемого, – догмата Троичности. Может быть, после него богословие усовершенствовалось в частных вопросах, но у кого из позднейших отцов в эпоху соборов равновесие двух начал было так математически-точно и у кого была очевиднее показана сверхлогичность догмата, нежели у этого поборника единосущия, – святителя, из православных православнейшего.
«Среди защитников никейского собора, – говорит А.А.Спасский, – Афанасий занял исключительное место; он был не только их вождём, но и показателем их положения в церкви. Все козни, направлявшиеся против никейского символа, начинались обыкновенно с Афанасия; изгнание служило ясным симптомом усиливавшейся реакции; торжество его являлось торжеством никейского собора и его вероучения. Можно сказать, что Афанасий на своих плечах вынес никейский символ из бури сомнений, вызванных им на Востоке. Не даром позднейшее поколение никейцев назвало его спасителем церкви и столпом православия». Не даром, – добавлю,– Григорий Богослов не находит достаточно сильных слов, чтобы восхвалить Великого Александрийца. Он – «блаженный, поистине Божий человек и великая труба истины», он «прекратил недуг» Церкви, он – «мужественный поборник Слова» и «строитель душ». Не даром «претерпеть за Афанасия что-либо самое тяжкое подвижники почитали величайшим приобретением для любомудрия, ставили это гораздо богоугоднее и выше продолжительных постов, возлежания на голой земле и других злостраданий, какими они всегда услаждаются». «Святейшее око вселенной, архиерея иереев, наставника в исповедании, сей великий глас, столп веры, сего, – если можно так сказать, – второго светильника и предтечу Христова, почившего в старости доброй, исполненной дней благородных, после наветов, после подвигов, после многой молвы о руке, после живого мертвеца, к себе переселяет Троица, для Которой он жил, и за Которую терпел напасти». «Я уверен, – добавляет Григорий Богослов, – что по сему описанию всякий узнает Афанасия». И действительно, он всегда был на страже. Когда пытались весьма тонко-рационалистически подделать омоусиус, Афанасий спешит предупредить Иовиана относительно тех, которые «принимают вид, что исповедуют веру никейскую, в самой же истине отрицают её, перетолковывая речение “едино-сущный”», и не обинуясь называет их арианами. И вот почему: он понимает, – как говорил Григорий Богослов, – что «вместе с концами слогов распадутся и концы вселенной» (ЛР), что тут малого отступления быть не может, что всякое, по-видимому тончайшее, рационализирование догмата делает его солью обуявшею, что нельзя говорить об искажении догмата, когда вечный Столп Истины подменяется прахом носимым в ветре по дорогам. «Отцов Никейских, – писал сам Афанасий, – должно уважать, иначе не приемлющие символа должны быть признаваемымы скорее всеми, н о н е х р и с т и а н а м и». В е с ь смысл догмата – в афанасьевском установлении омоусиус, и вне «едино-сущия» – лишь суета человеческих, мятущихся мнений.
Вот почему грубоватый Рим тоже не сдавался ни на какие ухищрения, и все льстивые, мудрствующие речи восточных полу-ариан, как много-шумливые волны, разбились о камень веры, – о непреклонное со стороны Рима требование вернуться к никейскому символу.
Возвращаюсь к вопросу о скепсисе.
Чтобы закон тождества был дан не только как глухой корень рассудка, – чтобы избавиться от эмпирии рассудка, которая нисколько не лучше эмпирии чувственности, нужно было бы выйти за пределы рассудка, войти в ту область, гле к о р е н и т с я рассудок со всеми своими нормами. Это значит, что нужно было бы в о п ы т е осуществить синтез безотносительного и отношения, первого и выводного, покоя и движения, единицы и бесконечности и т.д. Рассудок н е п р и н и м а е т этих сочетаний. Там, где каждое А есть А и только А, искомый синтез решительно невозможен. Если он возможен вообще, то только лишь за пределами рассудка, причём д л я р а с с у д к а раз полученный синтез будет мыслиться как идеальный предел рассудка, как по-ту-стороннее, за-предельное, т р а н с ц е н д е н т н о е для него образование, – как регулятивный принцип. Но, при попытке охватить этот синтез, рассудок, по самой структуре своей, не может воспринять его целостности и неминуемо разлагает его не несовместные, противо-полагающиеся термины. Coincidentia oppositorum неудержимо распадается и рассыпается на взаимоисключающие opposita. А раз так, то д л я р а с с у д к а будет безвыходным либо устранение одного из терминов в пользу другого, либо ритмическое чередование их, – борьба, подобная борьбе разно-цветных зрительных полей в стереоскопе. То или другое, но н е синтез! Кстати сказать, победа одного термина над другим будет соответствовать той или иной ереси, а чередование полей – рассудочному «православию» учебников, какое на самом деле есть лже-православие, представляющее собой букет несовместимых ересей. (ЛР)
В поисках достоверности мы наткнулись на такое сочетание терминов, которое для рассудка не имеет и не может иметь смысла. «Троица во Единице и Единица в Троице» для рассудка ничего не означает, если только брать это выражение с его истинным, не потворствующим рассудку содержанием; это – своего рода «корень из 2». И, тем не менее, сама наличная норма рассудка, т.е. закон тождества и закон достаточного основания, приводит нас к такому сочетанию, требует, чтобы оно и м е л о свой смысл, чтобы оно б ы л о исходным пунктом всего ведения. Осуждая себя самого, рассудок требует Троицы во Единице, но не может вместить Её. А для того, чтобы в о п ы т е пережить это требование, этот постулат разума (– если только он вообще может быть переживаем в опыте! –), разум должен мыслить его, должен построить себе н о в у ю норму. Для последней же необходимо препобедить рассудок, – единственное, что есть у нас, хотя и не оправданное: мудрость Божественная и мудрость человеческая столкнулись. Поэтому сам от себя разум никогда не пришёл бы к возможности такого сочетания. Только а в т о р и т е т «Власть Имеющего» может быть опорною точкою для усилий. Доверившись и поверив, что тут, в этом усилии – Истина, разум должен отрешиться от своей ограниченности в пределах рассудка, отказаться от замкнутости рассудочных построений и обратиться к н о в о й норме, – стать «новым» разумом. Тут-то и требуется свободный подвиг. С в о б о д н ы й: ибо разум может делать усилие и подняться к лучшему, а может и не делать его, оставаясь при том конечном, условном и «хорошем», что он уже имеет. П о д в и г: ибо нужно усилие, напряжение, само-отречение, сбрасывание с себя «ветхого Адама», а в это время всё д а н н о е, – «естественное», конечное, знакомое, условное, – тянет к себе. Нужно само- преодоление, нужна в е р а. Если вообще достижимо «б е с т р е п е т н о е С е р д ц е н е п р е л о ж н о й И с т и н ы», о котором тосковал Парменид, то путь к Нему не минует гефсиманского подвига веры.
Ариане и православные – вот типичный случай, когда две позиции явно противо- поставились одна другой. «В то время как православные, – пишет один исследователь, – ставили вопрос, н у ж н о ли мыслить в Боге три действительных Лица, три нераздельных единства Божественной Сущности, и отвечали на этот вопрос категорическим утверждением, – ариане спрашивали: м о ж н о ли мыслить троичность Божественных Лиц, при нераздельном единстве их сущности, – и отвечали нет, нельзя». Творя подвиг веры, православные искали д о л ж н о г о, высшего; ариане же, внутренне само-оберегаясь, расчётливо выспрашивали: «А не потребует ли Истина жертвы от нас?» и, завидя сад Гефсиманский, пятились назад. И те и другие делали с в о б о д н ы й выбор; однако, ариане употребляли свою свободу на рабство себе, а православные – на освобождение себя от плена плотской ограниченности. «Вы дерзаете учить и мыслить невозможное», – писал Е в н о м и й Василию Великому и Григорию Нисскому про догмат христологический. Это – крик плотяности, крик рассудка, ходящего по стихиям мира и эгоистически дрожащего за свою целость, – рассудка довольного собою, несмотря на п о л н о е в н у т р е н н е е р а з л о ж е н и е его, рассудка в своей безграничной боязни пред малейшею болью дерзающего самую Истину приспособлять к себе, к своим слепым и бессмысленным нормам. Но для ж и в о т н о г о страха за себя есть только одно средство – б и ч. «Власть имеющий» поднял его над растленным рассудком: «Истинно, истинно говорю вам: Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода; любящий душу свою погубит её а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную» (Ин. 12:24-25). Кто не хочет погубить душу свою, те пусть же пребывают в геенне, в неугасимом огне эпохэ, «где червь их не умирает, и огонь их не угасает».
Итак, исходная точка – полное доверие и полная в о л е в а я победа над тяготением к плотяности, над колебаниями, удерживающими от подъёма ввысь, от пленения рассудка в послушание вере. Обливаясь кровью, буду говорить в напряжении: «Credo, quia absurdum est. Ничего, ничего не хочу своего, – не хочу даже рассудка. Ты один, – Ты только. Dic animae meae: salus tua Ego sum! Впрочем, не моя, а Твоя воля да будет. Троице Единице, помилуй мя!»
Эта необходимая стадия л и ч н о г о развития – в истории Ц е р к в и типически представлена II-м веком и невольно связывается с именем Т е р т у л л и а н а, всею своею пламенною личностью в чистоте выразившего первую ступень веры: Credo quia absurdum.
[Примеч. П.Фл.: Знаменитое Credo, quia absurdum схематически передаёт собственно лишь мысль Тертуллиана. Подлинное же изречение гласит: Mortuus est Dei filius, credible est, quia inseptum est; et sepultus revisit, certum est quia impossible est – что умер Сын Божий, это достоверно, потому что нелепо; что Он, погребённый, воскрес, несомненно, потому что это невозможно.]
В е р ю вопреки стонам рассудка, верю именно потому, что в самой враждебности рассудка к вере моей усматриваю залог чего-то нового, чего-то неслыханного и высшего. Я не спущусь в низины рассудка, какими бы страхами он ни запугивал меня. Я видел уже, что оставаясь при рассудке я гибну в эпохэ; я хочу быть теперь б е з р а с с у д н ы м. А на льстивые уверения его я крикну: «Лжёшь! слышал тысячу раз уже!», и пусть тогда свистнет безжалостный бич.
Блажен, кто сохранил ещё знаменованье
обычаев отцов, их тёмного преданья,
ответствовал слезой на пение псалма;
к т о в о л е й о т о р в а в с о м н е н и я у м а,
святую Библию читает с умиленьем,
и, вняв церковный звон, в ночи, с благоговеньем,
с молитвою зажег пред образом святым
свечу заветную, и плакал перед ним.
Затем, поднявшись на новую ступень, обеспечив себе невозможность соскользнуть на рассудочную плоскость, я говорю себе: Т е п е р ь я верю и надеюсь понять то, во что я верю. Т е п е р ь бесконечное и вечное я не превращу в конечное и временное, высшее единство не распадётся у меня на несовместимые моменты. Т е п е р ь я вижу, что вера моя есть источник высшего разумения, и что в ней рассудок получает себе глубину». И, отдыхая от пережитой трудности, я, спокойно, повторяю за А н с е л ь м о м Кентерберийским: «Credo ut intelligam. Сперва мне казалось, будто я нечто «знаю»; после перелома стал «верить». Теперь же я знаю, потому что верю».
Нужно было 9 веков человечеству, чтобы прийти к такому состоянию. И.сказав, я перехожу на третью ступень. Я уразумеваю веру свою. Я вижу, что она есть поклонение «Ведомому Богу», что я не только верю, но и знаю. Границы знания и веры сливаются. Тают и текут рассудочные перегородки; весь рассудок претворяется в новую сущность. И я, радостный, взываю: Intelligo ut credam! Слава Богу за всё. «Теперь мы видим, как бы, сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же – лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно тому, как я узнал себя самого (1 Кор 13:12). – Человечеству нужно было ещё 9 веков, чтобы подняться на эту ступень (ЛР).
Таковы три стадии веры, – как в фило-генезисе, так и в онто-генезисе. Но, описывая их, я забежал вперёд. Необходимо оборотиться и раскрыть, в чём же заключается последняя стадия веры во Св. Троицу, – другими словами, как в д е й с т в и т е л ь н о с т и переживается истинность догмата, как разрешается эпохэ.
Подвигом веры преодолена, побеждена и ниспровергнута рассудочная «нелепость» догмата. Сознано, что в нём – источник знания. Но конечною целью является ведь д а н н о с т ь его. Последняя имеет, – в условиях земной жизни, – д в е ступени: ведение символическое и ведение непосредственное, – хотя и не всецелостное.
Подвиг веры – в том, чтобы от данной ассерторической (утверждающей - Л.Р.) истины мира перейти к аподиктической (обязывающей - Л.Р.), – но ещё не данной, – Истины догмата, – сомнительное, хотя и наличное, «здесь» предпочесть достоверному, но ещё не наличному «там».
Закон тождества и его высшая форма поняты нами в их возможножности. Требование воспринимать д е й с т в и т е л ь н о с т ь э т о й в о з м о ж н о с т и означает необходимость выйти из области понятий в сферу живого о п ы т а. Разумная интуиция и была бы последним все-разрешающим звеном в цепи выводов. Б е з неё мы вращаемся в области п о с т у л а т о в и п р е д п о с ы л о к достоверного познания, – правда, неизбежных, но не видим, удовлетворяются ли они. Вся цепь, закинутая к небу, на мгновение повисла в воздухе, на миг затвердела в стоячем положении. Но ведь если она не зацепится «там», то со зловещим лязгом и грохотом падёт обратно на нашу голову. Или, быть может, Истины вовсе нет? – Тогда в с я действительность обращается в абсолютно-бессмысленный и безумный кошмар (ЛР), а мы вынуждены от разумной, но мучительной эпохэ перейти к безумной и уж до конца мучительной агонии, вечно задыхаясь, вечно умирая без Истины.
Так или иначе, но между Триединым христианским Богом и умиранием в безумии tertium non datur. Обрати внимание: я пишу это не преувеличенно, а до точности; у меня даже слов не хватает выразиться ещё резче. Между вечною жизнью в недрах Троицы и вечною смертью второю н е т промежутка, хотя бы в волосок.
И л и то, и л и другое. В самом деле: рассудок, в своих конститутивных логических нормах, и л и насквозь нелеп, безумен до тончайшей своей структуры, сложен из элементов бездоказательных и потому вполне случайных, и л и же он имеет своею основою сверх-логическое. Что-нибудь одно: и л и нужно принять принципиальную случайность законов логики, и л и же неизбежно признание сверх-логической основы этих норм, – основы, с точки зрения самого рассудка, постулативно-необходимой, но тем самым имеющей д л я р а с с у д к а антиномический закал. И то и другое выводит з а пределы рассудка. Но первое разлагает рассудок, внося в сознание вечно-безумную агонию, а второе укрепляет его подвигом само-преодоления, – крестом, который есть для рассудка нелепое отторжение себя от себя. Вера, которою спасаемся, есть начало и конец креста и со-распинания Христу. Но вера, – то, что называется «разумная», – т.е. «с доказательствами от разума», вера по толстовской формуле: «Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне, как необходимость разума» – такая вера есть заскорузлый, злой, жёсткий и каменный нарост в сердце, который не допускает его к Богу, – крамола против Бога, чудовищное порождение человеческого эгоизма, желающего и Бога подчинить себе.
Много есть родов безбожия, но худший из них – так именуемая «разумная», или, точнее, рассудочная вера. Х у д ш и й, ибо кроме непризнания объекта веры («вещей н е в и д и м ы х») она, к тому же, являет в себе лицемерие, признаёт Бога, чтобы отвергнуть самое существо Его, – невидимость, т.е. сверхрассудочность. «Что есть “разумная вера”?» – спрашиваю себя. Отвечаю: «“Разумная вера” есть гнусность и смрад пред Богом». Не поверить, доколе не отвергнешься себя, с в о е г о закона. А “разумная вера” именно и не желает отвергнуться самости, да вдобавок утверждает, что она ведает Истину. Но, не отвергшись себя, она может иметь у себя т о л ь к о себя. Истина через себя познаётся, – не иначе; чтобы узнать Истину, надо иметь её, а для этого необходимо перестать быть т о л ь к о собою и причаститься самой Истины.
“Разумная вера” есть начало диавольской гордыни, желание не п р и н я т ь в себя Бога, а в ы д а т ь с е б я за Бога, – самозванство и самовольство. Отказ для Бога от м о н и з м а в мышлении и есть начало веры.
М о н и с т и ч е с к а я н е п р е р ы в н о с т ь – таково знамя крамольного рассудка твари, отторгающегося от своего Начала и корня и рассыпающегося в прах само-утверждения и само-уничтожения. Д у а л и с т и ч е с к а я п р е р ы в н о с т ь – это знамя рассудка, погубляющего себя ради своего начала и в единении с Ним получающего своё обновление и свою крепость. В противоположении двух паролей – противоположение твари, дерзнувшей возжелать стать на место Творца и неизбежно низвергающейся из Него в агонию вечного уничтожения, и твари, со смирением принимающей от Истины вечное обожение: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему».
Но – т а к, если И с т и н а с у щ е с т в у е т. Последнее условие, как застава у моста, стоит при переходе в область Истины. Между пройденною уже областью знания в понятиях, знания о б И с т и н е (постулативного, а потому и предположительного) и предполагаемою, требуемою областью знания в интуиции, знания И с т и н ы (существенного, включающего в себя своё обоснование, а потому и абсолютного) лежит б е з д н а, которую нельзя обойти никакими обходами, чрез которую нет сил прыгнуть никакими усилиями. Ведь надобно стать на вполне новую землю, о которой у нас нет и помину. Мы даже не знаем, есть ли в действительности эта новая земля, – не знаем, ибо блага духовные, которых ищем мы, лежат в н е области плотского познания: они – то, «чего око не видело и ухо не слышало, и что на сердце человеку не восходило»(1 Кор.2:9; ср. Ис.64:4). Но мостом, ведущим к у д а - т о, – может быть, на т о т, предполагаемый край бездны, к Эдему неувядающих радостей духовных, а, может быть, и никуда не ведущим, является в е р а. Нам надо и л и умирать в агонии на нашем краю бездны, и л и идти на авось и искать «новой Земли», на которой «живёт Правда» (2 Петр. 3:12). Мы свободны выбрать, но мы должны решиться
л и б о на то, л и б о на другое. И л и поиски Троицы, и л и умирание в безумии. Выбирай, червь и ничтожество: tertium non datur!
Может быть, именно в созерцании неизбежности такого выбора у Блеза П а с к а л я возникла мысль о пари на Бога. С одной стороны – в с ё, но ещё не верное; с другой – н е ч т о, глупцу кажущееся ч е м - т о, но для познавшего его подлинную стоимость делающееся абсолютно ничем без т о г о и – всем, если будет найдено т о. В самой наглядной форме идея такого пари была высказана одним лавочников: он понавешал у себя множество лампад, крестов и всякой святыни. Когда же какой-то «интеллигент» стал по этому поводу высказывать свой скептицизм, то лавочник выразился так: «Э, барин! Мне всё это пятьдесят рублей стоит в год, – прямо ничто для меня. А ну, как пойдёт в дело!» – Конечно, такая формулировка «пари Паскаля» звучит грубо, даже цинично. Конечно, даже у самого Паскаля она может казаться чересчур расчётливой. И, тем не менее, общий смысл этого пари, всегда себе равный, – несомненен: стоит верное ничто обменять на неверную Бесконечность, тем более, что в последней меняющий может снова получить своё ничто, но уже как нечто: однако, если для отвлечённой мысли выгодность такого обмена ясна сразу, то перевести эту мысль в область конкретной духовной жизни удаётся не сразу: как раненый зверь защищает себя уличённая самость.
Само-утверждающийся языческий рассудок уже давно толковал, что обетования Христовы недоказуемы, так как они относятся к б у д у щ и м благам. Но на это А р н о б и й отвечает, что из двух недостоверных вещей ту, которая даёт нам надежду, всегда надо предпочитать той, которая нам не даёт её.
Человек мыслящий уже понял, что на этом берегу у него нет н и ч е г о. Но ведь вступить на мост и пойти по нему! Нужно усилие, нужна затрата силы. А вдруг эта затрата ни к чему? Не лучше ли быть в предсмертных корчах тут же, у моста? Или идти по мосту, – может быть, идти всю жизнь, вечно ожидая другого края? Что лучше: в е ч н о умирать, – в виду, быть может, обетованной страны – замерзать в ледяном холоде абсолютного ничто и гореть в вечной огневице пирронической эпохэ; или истощать последние усилия, быть может, ради миража, который будет удаляться по мере того, как путник делает усилие приблизиться? – Я остаюсь, я остаюсь з д е с ь.
Но мучительная тоска и внезапная надежда не дают даже издыхать спокойно. Тогда я вскакиваю и бегу стремительно. Но холод столь же внезапного отчаяния подкашивает ноги, бесконечный страх овладевает душою. Я бегу, стремительно бегу назад.
Идти и не идти, искать и не искать, надеяться и отчаиваться, бояться истратить последние силы. И, из-за этой боязни, тратить их вдесятеро, бегая взад и вперёд. Где выход? Где прибежище? К кому, к чему кинуться за помощью? «Господи, Господи, е с л и Ты существуешь, помоги безумной душе, Сам приди, Сам приведи меня к Себе! Хочу ли я, или не хочу, спаси меня. Как можешь и как знаешь дай мне увидеть Тебя. Силою и страданиями привлеки меня!»
В этом возгласе предельного отчаяния – начало новой стадии философствования, – начало живой в е р ы. Я не знаю, есть ли истина, или нет её. Но я всем нутром ощущаю, что н е м о г у без неё. И я знаю, что е с л и о н а е с т ь, то она – всё для меня: и разум, и добро, и сила, и жизнь, и счастье. Может быть, нет её, но я люблю её, – люблю больше, нежели всё существующее. К ней я уже отношусь, как к существующей, и её, – быть может, не существующую, – люблю всею душою моею и всем помышлением моим. Для неё я отказываюсь от всего, – д а ж е о т с в о и х в о п р о с о в и о т с в о е г о с о м н е н и я. Я, сомневающийся, веду себя с нею, как не сомневающийся. Я, стоящий на крае ничтожества, хожу, как если бы я уже был на другом крае, в стране реальности, оправданности и ведения. Трояким подвигом веры, надежды и любви преодолевается косность закона тождества. Я перестаю быть Я, м о я мысль перестаёт быть м о е ю мыслью; н е п о с т и ж и м ы м а к то м отказываюсь от само-утверждения «Я=Я». Ч т о - т о или К т о - т о гасит во мне идею, что Я – ц е н т р философских исканий, и я ставлю на это место идею о самой Истине.
Будучи ничем, но единственным д а н н ы м мне, я, себе данный, непостижимо для себя самого отказываюсь от этого единственного своего достояния, приношу Истине ту единственную жертву, которая предоставлена мне, но и её-то приношу опять не своею силою, а силой самой Истины; как ранее греховная самость ставила себя на место Бога, так теперь помощью Божией я ставлю на место себя Бога, мне ещё не ведомого, но чаемого и любимого. Я отказываюсь от боязливого опасения, что со мною будет, и решительным взмахом делаю себе операцию. Я покидаю край бездны и твёрдым шагом вбегаю на мост, который, быть может, провалится подо мною.
Свою судьбу, свой разум, самую душу всего искания – требование достоверности я вручаю в руки самой Истины (ЛР). Ради неё я отказываюсь от доказательства. В том-то и трудность подвига, что приносишь в жертву самое заветное – последнее – и знаешь, что если и э т о обманет, если и э т а жертва окажется тщетною, то тогда деваться некуда. Ведь она – последнее средство. Если самой Триединой Истины не оказалось, то где же искать её? И, при вступлении на мост веры, новая углублённость открывается в словах Послания к евреям: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»(11:4) – в тех самых словах, которые ранее были для рассудка столь неприемлемо противоречивыми.
[. . .]
ПИСЬМО ЧЕТВЁРТОЕ: СВЕТ ИСТИНЫ.
В самой вере я неожиданно нашёл для себя первый намёк на искомое мною. Как бывает в феврале: улыбнётся ясною-ясною улыбкою примытое солнышко; повеет мягкий ветерок; хотя до весны-то далеко, но
природа
сквозь сон встречает утро года, –
пахнет чем-то вешним. Так и в молитве. Сделав усилие над собою ради любви к истине, я вступил с Истиною в личное, живое общение (– неохотно добавляю казённое: если только Она есть вообще –). Я отказался от себя и тем самым нарушил низший закон тождества, потому что перестало быть голое «Я!». Явилось какое-то укрепление Я, но – в новом смысле. То Я, которое требовало доказательств, начало н е я с н о в о с п р и н и м а т ь э т о доказательство, начало чувствовать, что доказательство будет. Как после болезни, получилось некоторое восстановление. Доносилась уже бодрящая свежесть и отдалённый прибой самой Вечности; я шёл как в пред-утреннем тумане и разглядывал неясные облики самой Истины. Мне почему-то хочется сравнить состояние своё с тем, как если бы тело превратилось в мягкий воск и по всем жилам разлилось молоко: ведь так именно бывает после долгой молитвы с поклонами. Кажется, смешно выходит моё сравнение, но лучшего не подберу. С этим как-то связалась любовь к людям, и в л ю б в и я нашёл н а ч а л ь н у ю стадию давно-желанной интуиции.
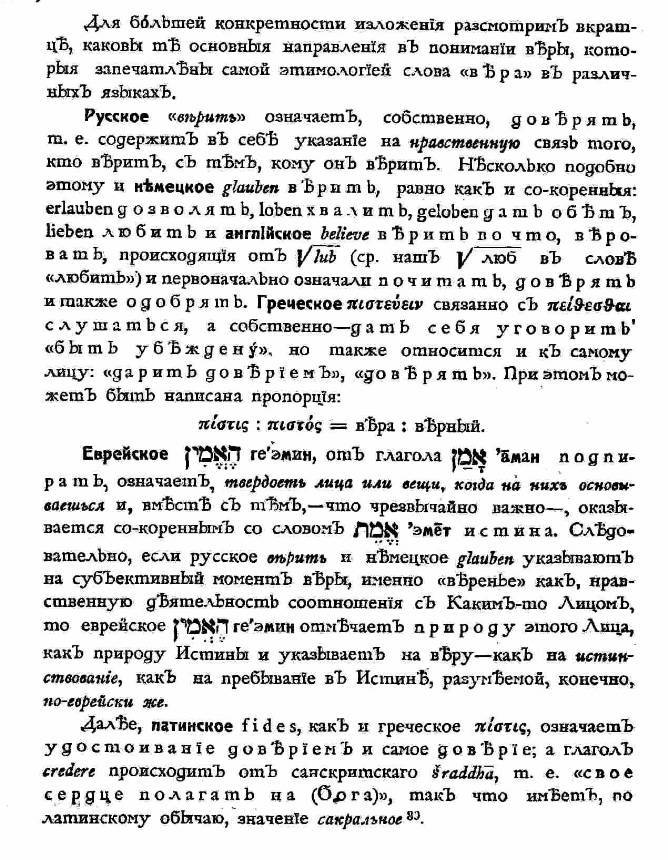 Если есть Бог – а для меня это делалось несомненным – то Он, необходимо, есть абсолютная любовь. Но любовь есть не п р и з н а к Бога. Бог не был бы абсолютною любовью, если бы был любовью только к другому, к условному, к тленному, к миру; ведь тогда любовь Божия была бы в зависимости от бытия условного и, следовательно, сама была бы случайна. Бог есть существо абсолютное потому, что Он – субстанциальный акт любви, акт – субстанция. Бог или Истина не только и м е е т любовь, но, прежде всего, «Бог е с т ь любовь – о Теос агапэ естин» (1 Ин. 4:8,16), т.е. любовь – это сущность Божия, собственная Его природа, а не только Ему присущее промыслительное Его отношение. Другими словами, «Бог есть л ю б о в ь» (точнее – «Любовь»), а не только «Любящий», хотя бы и «совершенно».
Если есть Бог – а для меня это делалось несомненным – то Он, необходимо, есть абсолютная любовь. Но любовь есть не п р и з н а к Бога. Бог не был бы абсолютною любовью, если бы был любовью только к другому, к условному, к тленному, к миру; ведь тогда любовь Божия была бы в зависимости от бытия условного и, следовательно, сама была бы случайна. Бог есть существо абсолютное потому, что Он – субстанциальный акт любви, акт – субстанция. Бог или Истина не только и м е е т любовь, но, прежде всего, «Бог е с т ь любовь – о Теос агапэ естин» (1 Ин. 4:8,16), т.е. любовь – это сущность Божия, собственная Его природа, а не только Ему присущее промыслительное Его отношение. Другими словами, «Бог есть л ю б о в ь» (точнее – «Любовь»), а не только «Любящий», хотя бы и «совершенно».В этом положении – вершина теоретического («отрицательного») познания и перевал к практическому («положительному»). Доселе каждое суждение сопровождалось своею неизбежною тенью, – условием: «Если только Бог вообще есть». Теперь, в свете знания интуитивно-дискурсивного, эта тень тает и расплывается. Но вместе с нею исчезает и возможность убеждать, потому что пришла пора подвижничества. Тут можно только обще наметить некоторые черты этого н о в о г о пути, но только личным опытом каждый может убедиться в правильности всего дальнейшего. То, что для пережившего является уже абсолютным ведением, для теоретика представляется лишь продолжением пробабилизма. Но у философа experimentum crucis (решающий эксперимент - Л.Р.) произведён. Его предположительное построение и л и оказалось Истиною, и тогда – истиною достоверною, и л и же – пустым домыслом. Но, если и э т о построение ложь, то в о о б щ е н е т И с т и н ы; в таком случае самое положение о ложности не может быть истинным и т.д. Философ впадает в эпохэ и вынужден начинать всё сначала, мучиться, снова пробовать и верить, вечно верить, – верить до муки и до смерти. Не может успокоиться на простом нигилизме тот, кто хочет Истины. «Верь в Истину, надейся на Истину, люби Истину» – вот голос самой истины, неизменно звучащий в душе философа. И если бы его постигла неудача с первою попыткою веры, он с удвоенною решимости взялся бы за неё снова. – Впрочем, всё это пишу более для формального ответа на вопрос «А если..?», нежели по существу, ибо опыт доказывает, что вера в с е г д а удаётся. Как говорит Единственная Книга про Авраама: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (Быт. 15:6 = Рим.4:3) – послушался таинственного зова Неведомой Истины, «верою повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошёл, н е з н а я, к у д а и д ё т. Верою обитал он на земле обетованной, как на ч у ж о й» (Евр. 11:8-9).
Как Авраам, так – и другие праведники (см. Евр.11). «И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, т.е. к небесному; посему и Бог не стыдился их, называя себя их Богом» (Евр. 11:15-16). Вот опыт истории. Праведники беззаветно стремились к «Невидимому», т.е. им не данному Небу, и Небо приняло их. И философ, стремясь к Истине, не вернётся ни к идоло-поклонству слепой интуиции, ни к самоволию горделивой дискурсии; нет, он не оставит стремления своего к ВЕДОМОМУ БОГУ.
Но присмотримся ближе, как и в силу чего принимает философа Небо.
Что бы мы ни думали о человеческом р а з у м е, но для нас загодя есть возможность утверждать, что он – орган человека, его живая деятельность, его реальная сила, логос. В противном же случае, в случае признания его «самим по себе» и потому – чем-то ирреальным – дианойа, – мы неизбежно обречены на столь же бесспорное и наперёд предрешённое отрицание реальности знания. Ведь если разум непричастен бытию, то и бытие непричастно разуму, т.е. алогично. Тогда неизбежен иллюзионизм и всяческий нигилизм, кончающийся дряблым и жалким скептицизмом. Единственный выход из этого болота относительности и условности – признание разума причастным разумности. А если – так, то акт познания есть акт не только гносеологический, но и онтологический, не только идеальный, но и реальный. Познание есть реальное в ы х о ж д е н и е познающего из себя или, – что то же, – реальное в х о ж д е н и е познаваемого в познающего, – реальное единение познающего и познаваемого. Это основное и характерное положение всей русской и, вообще, восточной философии. Мы его получили ранее несколько иным и более твёрдым путём, прямо указывая на сердце и душу этого «выхождения из себя», как на акт в е р ы в религиозном, в православном смысле, ибо и с т и н н о е «выхождение» есть именно в е р а, всё же прочее может быть мечтательным и прелестным. Итак, познание не есть захват мёртвого объекта хищным гносеологическим субъектом, а живое нравственное о б щ е н и е личностей, из которых каждая для каждой служит и объектом и субъектом. В собственном смысле познаваема только личность и только личностью.
Другими словами, с у щ е с т в е н н о е п о з н а н и е, разумеемая как познаваемый реальный объект, – обе они – одно и то же реально, хотя и различаются в отвлечённом рассудке.
Существенное познание Истины, т.е. приобщение самой Истины, есть, следовательно, реальное вхождение в недра Божественного Триединства (ЛР), а не только идеальное касание к внешней форме Его. Поэтому, истинное познание, – познание Истины, – возможно только чрез п р е с у щ е с т в л е н и е человека, чрез обожение его, чрез стяжание любви, как Божественной сущности: кто не с Богом, тот не знает Бога. В любви и только в любви мыслимо действительное познание Истины. И наоборот, познание Истины обнаруживает себя любовью: кто с Любовью, тот не может не любить. Нельзя говорить здесь, что причина и что следствие, потому что и то, и другое – лишь с т о р о н ы одного и того же таинственного факта, – вхождения Бога в меня, как философствующего субъекта, и меня в Бога, как объективную Истину.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------