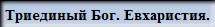14. ТРИЕДИНЫЙ БОГ
"Когда я говорю Бог, я разумею Отца, Сына и Святого Духа", — пишет Григорий Богослов (1). Будучи весьма далеко от формы какого-то отвлеченного умозрения, учение о Троице в греческой патристической традиции всегда было делом религиозного опыта — литургического, мистического и, часто, поэтического:
"Не прежде я постигаю единство, чем просвещаюсь сиянием Троих; не прежде я различаю их, чем возношусь вновь к единству. Когда я думаю об одном из Трех, я мыслю Его как целое, и мои очи наполнены, и великая часть того, что я думаю, бежит меня" (2).
Основания такого троичного богословия, которые были сформулированы каппадокийскими отцами в IV в. в завершении арианских споров и которые оставались образцом на протяжении всего византийского периода истории, находятся в сотериологии: отцы на самом деле были озабочены не столько спекулятивными рассуждениями, сколько спасением человека. Никейское учение о единосущности означало "исповедание полноты Божественности во Христе и подразумевало, что Воплощение было существенно важно для искупительного деяния Христова"; и также подобным образом утверждало, что не будь "Дух вполне Богом, Он не смог бы даровать освящение" (3).
Само по себе каппадокийское учение о Троице остается совершенно бессмысленным, если не помнить, что целью его было поддержание тех христологиче-ских и пневматологических предпосылок, которые были разобраны в двух предыдущих главах: Воплощенный Логос и Святой Дух есть прежде всего божественные деятели спасения, и только затем Они открываются как сущностно единый Бог. Хорошо известно, что в ходе богословских споров IV в. каппадокийские отцы были обвинены в три-теизме, так что Григорию Нисскому пришлось даже издать свой прославленный апологетический трактат, доказующий, что "нет никаких трех богов" (4).
Остается спорным, правда, преуспел ли он в доказательстве своего мнения в философском смысле. Учение о трех Ипостасях, принятое каппадокийскими отцами для обозначения трех Божественных Лиц, имело определенные ассоциации с Плотином и оригенизмом, которые обыкновенно предполагали различение по сущности. Отцы, тем не менее, хранили верность принятой ими терминологии, не взирая на все затруднения и нападки, — как со стороны "староникейцев", верных Афанасию, так и со стороны теологов латинского Запада, — потому что они не видели никакого иного способа сохранить библейский опыт спасения во вполне определимых и различных лицах Христа и Духа, как опыт, который невозможно описать в категориях философского эссенциализма.
Латинский
Запад принял иной подход к тринитарному богословию, и это различие между Востоком и Западом удачно выразил Теодор де Реньон: "Латинская философия сначала рассматривает природу саму по себе, а затем переходит к деятелю; греческая философия рассматривает сначала деятеля и переходит через него к природе. Латиняне мыслят личность модусом природы, а греки мыслят природу содержанием личности" (5). Говоря практически, различие в акцентах означает, что и в lex orandi, и в lex credendi византийского христианства Троица оставалась первичным и конкретным опытом; единство Божией природы было статьей исповедания веры, которая всегда соединялась с настойчивым напоминанием об абсолютной непознаваемости Божественной Сущности. На Западе, однако, особенно со времен Августина, единство Божественного Бытия служило отправной точкой тринитарного богословия. Очевидно, до тех пор, пока обе школы мысли оставались открытыми для диалога и были готовы к взаимопониманию, они могли развиваться, дополняя друг друга.
К несчастью, ожесточенные споры о "Филиокве" привели к окостенению позиций и превратились в одну из главных причин раскола. Современный кризис деизма, возрастающие трудности, с которыми приходится сталкиваться современным богословам, желающим объяснить и оправдать Бытие Бога как философски определяемое понятие, могли бы оказаться полезными не только для разрешения средневекового спора между Востоком и Западом, но и для возрождения более подлинного учения о Троице. "Похоже, что в наше время, — пишет Теодор де Реньон, — догмат Божественного единства поглотил, так сказать, догмат Троицы, о котором, если кто и говорит, так только как о воспоминании" (6). Но "догмат Божественного единства" оспаривается догматом о смерти Бога" отсюда происходит возврат к экзистенциальному и опытному подходу к доктрине Бога, которая видится в контексте истории спасения. "Без опыта Отца, Сына и Духа в истории спасения, — пишет Карл Ранер, — мы не сумеем в конечном счете вообще постичь их различимого существования как единого Бога" (7).
Эти заботы новейшего времени оказываются тождественны с последовательной позицией византийского богословия.
1. Единство и троичность
Каппадокийские отцы приняли формулировку, которая так и осталась критерием православного тринитарного богословия Востока: Бог есть одна Сущность в трех Ипостасях. Это Каппадокийское определение, принимая во внимание обстоятельства IV в., никогда не притязало на то, чтобы быть чем-то большим, чем лучшее из возможных описаний. Божественной тайны, но не решением философской проблемы, наподобие, скажем, "Троицы ипостасей" Плотина. Отцы всегда утверждали, что нам нельзя знать,
Кто есть Бог, мы можем знать только, что Он есть, потому что Он открылся — в истории спасения, — как Отец, Сын и Дух. Бог есть Троица, "и этот факт не может быть выведен из принципа, и не может быть объяснен какими-либо принципами, поскольку нет начал либо причин, предшествовавших Троице" (8).
Почему же тогда это описание и эта терминология предпочтительнее прочих? Главным образом потому, что все иные возможные варианты с самого начала казались непригодными. Формула "одна сущность, три prosopa", к примеру, была не в силах исключить представление о какой-то модалистской Троице, поскольку термин prosopon, хотя обычно и употреблялся для обозначения "лица", мог также означать "маску" или "внешность". Каппадокийские отцы, тем временем, хотели одновременно утвердить, что Бог есть один объект и три объекта, что одновременно Его единство и Его троичность — полноценные реальности.
"Когда я говорю о Боге, — пишет Григорий Богослов, — ты должен сразу просвещаться и одной вспышкой света, и тремя. Три в свойствах, Ипостасях или Лицах, если кто-то предпочитает так называть Их, ибо не станем же мы ссориться об именах подолгу, если слоги складываются в одинаковое значение; но один в отношении ousia 97, то есть Божества" (9).
Тут нет претензий на философскую связность, хотя и делается попытка использовать обиходные философские термины. Конечный смысл этих терминов, однако, явно отличается от их значений в греческой философии, а их неадекватность честно признается.
Сказанное особенно верно в отношении Ипостаси, ключевого термина в троичном богословии, как и в христологии. Ни в аристотелизме, ни в неоплатонизме не было попыток обозначать этим термином лицо (личность) в христианском (и современном) смысле, или деятеля, "обладающего" присущей ему природой и соответственно "действующего", как какой-то уникальный предмет, абсолютная тождественность которого никоим образом не может двоиться. Выступая против староникейцев", Каппадокийские отцы желали подчеркнуть, что никейское homoousion ("единосущный") не отождествляет Сына с Отцом на уровне личности, но лишь на уровне ousia.
"Ни Сын не есть Отец, ибо Отец — один, но (по естеству) есть то, что есть Отец; ни Дух не есть Сын, потому что Он есть от Бога, ибо Единородный есть один, но Он есть то, что Сын есть" (10). Итак, в Боге есть "нечто" одно, но три Ипостаси —
это личные тождественности, несводимые одна к другой в своем Личном Бытии. Они "обладают Божественностью" (11), и Божественность есть "в них" (12).
Признают ипостасный характер [Духа] в том, что Он открывается после Сына и вместе с Сыном, и в том, что Он происходит от Отца. А Сын, в Себе и Собою открывающий Духа, происходящего от Отца, сияет один непорожденным светом и не имеет ничего общего с Отцом и Духом в тождестве Своих частных черт, но открывается лишь в чертах, присущих Его Ипостаси. А Отец обладает особенной ипостасной чертой бытия Отцом и бытия независимого от всякой причинности... (13).
Тот же нерсоналистский акцент обнаруживается в настоянии греческих отцов на "монархии" Отца. В противоположность концепции, которая преобладала после Августина на Западе и в латинской схоластике, греческое богословие приписывало происхождение ипостасного "существования" ипостаси Отца — а не общей сущности. Отец есть "причина" (aitia) и "начало" (archē) Божественной природы, которая присуща и Сыну, и Духу. Еще поразительней тот факт, что ссылками на эту "монархию" каинадокийские отцы все время пользовались, отбиваясь от обвинений в "трехбожии". "Бог — один, — пишет Василий, — потому что Отец — один" (14). Та же мысль обнаруживается и у Григория Богослова: "Бог есть общая природа трех, но Отец есть их союз [henōsis]" (15). Псевдо-Дионисий также высказывается об Отце как об "источнике Божественности" (16), а Иоанн Дамаскин в своем "Точном изложении Православной веры" тоже утверждает существенную зависимость Сына и Духа от Лица Отца:
"Что бы ни имел Сын от Отца, то есть и у Духа, включая само Его бытие. А не существуй Отец, не было б ни Сына, ни Духа; а не имей чего-то Отец, того не было бы и у Сына или Духа. Более того, по причине Отца, то есть, в силу того, что Отец есть и Сын и Дух суть; и по причине Отца Сын и Дух имеют все, что у них есть" (17).
Приемля Никею, каппадокийские отцы устранили онтологический субординационализм Оригена и Ария, но они, разумеется, сохранили не только свое понимание ипостасной жизни, но и библейский и православный субординационализм, объявлявший личностную тождественность Отца конечным истоком всего Божественного Бытия и деяния:
"Три [суть] один Бог, когда созерцаются вместе; каждый [есть] Бог, потому что [они суть] единосущны; три [суть] один Бог по причине монархии [Отца]" (18).
Развивая свое хорошо известное учение о Божественном образе в человеке,
Григорий Нисский определяет одну сторону личного человеческого существования, которое явно отлично от Бытия Божия: каждая человеческая личность обладает властью воспроизводить себя, тогда как в Боге есть только "одно и то же самое Лицо Отца, от Которого Сын рождается и Дух исходит" (19). Итак, человеческий род — это непрерывный процесс дробления, и человечество может восстановить свое единство лишь через приятие Отца во Христе, — то есть людям надо стать детьми той единственной Ипостаси, которая порождает без дробления или умножения. Исток единства в Троице — Отец — восстанавливает единство творения, принимая человечность в Своем Сыне, Новом Адаме, в Котором человечество "вновь возглавляется" действием Святого Духа.
Не будучи отвлеченным умозрением, учение о Троице находилось в самом центре византийского религиозного опыта: имманентная Троица являет себя "икономной" Троицей, то есть в спасительном откровении Бога в истории. Это, в частности, становится понятным из Литургии, особенно из Евхаристического канона. Будучи торжественным молением Отцу усыновленной Им общины людей, объединенной в Воплощенном Сыне и взывающей к Духу, Евхаристия есть Таинство дарованного людям Божественного единства. Та же действительность Троицы выражена в бесчисленных гимнах, в изобилии рассеянных во всех византийских литургических циклах. Вот торжественный гимн на Пятидесятницу, приписываемый императору-поэту Льву VI (886—912) и представляющий собой вариацию на прославленный Trisagion 98 :
"Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся, Сыну во Отце со Святым Духом: Отец бо безлетно роди Сына соприсносущна и сопрестольна, и Дух Святый бе во Отце с Сыном прославляемь, Едина сила, Едино существо, Едино Божество, Емуже покланяющеся вси глаголем: Святый Боже, вся содеявый Сыном, содейством Святого Духа; Святый Крепкий, Имже Отца познахом, и Дух Святый прииде в мир; Святый Безсмертный, Утешительный Душе, от Отца исходяй и в Сыне почиваяй, Троице Святая, слава Тебе" (20).
В классическом латинском учении о Троице "Отец, Сын и Дух лишь "относительно" различны" (21). Какое бы толкование не предлагалось идее "отношения", подразумеваемого таким утверждением, ясно, что западная мысль признавала онтологическое первенство сущностного единства над различиями между Лицами в Боге; то есть, что Бог есть сущностью один, за исключением Божественных Лиц, которые определяются в терминах отношений. В византийской мысли, между тем — говоря словами Максима Исповедника, — "Бог есть одинаково монада и триада" (22),
и отсюда, пожалуй, склонность и в богопочитании, и в философских формулировках (в отличие от положений доктринальных) отдавать определенное преимущество различию Лиц сравнительно с сущностным единством. А в ответ на обвинения в "трехбожии" византийцы ссылались на Никейское определение "единосущности".
Эта ссылка, однако, не могла решить дело само по себе просто потому, что греческая патристическая мысль и особенно мысль каппадокийцев всегда принимала в качестве отправной точки позицию апофатического богословия, согласно которой Бытие Божие и вследствие этого окончательный смысл ипостасных взаимоотношений совершенно превышают понимание, определимость, доказательность. Само понятие Бытия Божия и как Единства, и как Троицы было откровением, иллюстрирующим такую непостижимость; ибо нет реальности, посильной уму, которая была бы сразу и "одним", и "тремя". По словам Владимира Лосского: "Непостижимое открывает Себя в самом факте Своей непостижимости, ибо Его Непостижимость коренится в том факте, что Бог есть не только Природа, но и Три Лица" (23).
Богопознание, следовательно, возможно лишь постольку, поскольку Он открывает Себя, поскольку, как имманентная Троица, является в "икономии" спасения, поскольку, как трансцендентный, действует на имманентном уровне. Именно в фундаментальном единстве этих "актов" и "энергий" Бога и открывали греческие отцы, в частности Василий и Григорий Нисский, решающий и существенный знак единства Божией Сущности. Хорошо известный довод Василия в пользу Божественности Духа состоит в том, что Дух обладает той же "энергией", что и Отец с Сыном. Сходным образом, Григорий Нисский доказывает сущностное единство Отца, Сына и Духа, выводя его из единства их деятельности (24). Этот аргумент вписывается и в контекст полемики каппадокийцев с Евномием, утверждавшим возможность познания Божией Сущности; никакое знание о Боге, доказывали каппадокийцы, невозможно, кроме знания о Его "энергиях". Троица в Ее икономии , открывшаяся в творении, есть, следовательно, единственное возможное основание для утверждения, что Бог, конечно, парадоксально и непостижимо, есть трансцендентная и имманентная Троица. Учение Григория Нисского об "энергиях" хорошо описал Г.Л.Престидж:
"У людей, ... несмотря на солидарность всего рода, каждый индивид действует сам по себе, так что к ним следует относиться как к множеству. Не так совсем... у Бога. Отец никогда не действует независимо от Сына, как и Сын от Духа. Божественное деяние... всегда начинается с Отца, происходит через Сына и завершается в Святом Духе; нет ничего подобного отдельному самостоятельному действию какого-то одного Лица; энергия непременно проходит через трех, хотя итогом становятся не три действия, но одно" (25).
В самом деле, аристотелевский принцип, согласно которому каждой "природе" (physis) присуще владение некоторой "энергией" (energeia) — то есть экзистенциально воспринимаемым проявлением, — обеспечивает терминологический фон для патристического понятия "энергии". (Мы уже сталкивались с использованием этой же терминологии в христологии, когда, скажем, Максим Исповедник доказывает, что две природы Христа предполагают две "энергии" или воли.) Между тем примечательно, что аристотелевская диада природы и энергии не считалась достаточной в приложении ее к Богу, потому что в природе Бога решающим действующим фактором является Ипостасность; отсюда Божественная "энергия" не только уникальна, но и триипостасна, поскольку "энергия" являет собой общую жизнь трех Лиц.
Личные стороны Божественного существования не исчезают в единой "энергии", и это есть Троичная жизнь Божия, Которая сообщается энергии" и участвует в ней через "энергию", Божественные Ипостаси являются в своей внутренней взаимопроникновенности (perichoresis) (26): "Я в Отце и Отец во Мне" (Ин. 14:11). Человеческие личности, пусть у них одна природа и сущность, действуют порознь и часто в конфликте друг с другом; в Боге, однако, perichoresis выражает совершенную любовь и, следовательно, совершенное единство "энергии" трех Ипостасей, но без какого-либо смешения или взаимопревращения.
"Энергия", если она всегда троична, всегда есть выражение и сообщение любви: "Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей" (Ин. 15:9).
Пожалуй, в контексте доктрины perichoresis и следует понимать то единственное в своем роде место у Паламы, где он как будто бы вдохновляется "психологическим" образом Троицы в духе Августина (27). Палама пишет: "Сей Дух Слова с вышних есть как таинственная любовь Отца к Слову таинственно рожденному; это то, чем обладает Слово, Сын возлюбленный, по отношению к Отцу, Который породил Его; это то, что творит Сын, исходя от Отца, совместно с этой любовью, и эта любовь пребывает природно на Нем" (28). Поскольку весь подход к Святой Троице у Паламы ничуть не похож на подход Августина, ясно, что процитированные слова есть результат персоналистской интерпретации, которую можно дать "психологическому" образу, использованному для того, чтобы внушить, подсказать тайну Троицы: любовь объединяет три Божественные Ипостаси и, через их общую "энергию"
или "действие", изливается на тех, кто достоин принять эту любовь.
2. Ипостась, сущность, энергия
Различение — реальное различение — между Божественной "сущностью" и Божественной "энергией" стало неминуемым в контексте учения об "обожении", которое подразумевает "соучастие" сотворенного человека в Жизни Бога, Сущность Которого остается трансцендентной и всецело неприступной. Все эти аспекты учения о воле Божией будут в повестке дня во время споров Григория Паламы с его противниками в XIV в. Вывод, к которому он, по необходимости, пришел, таков: "Три начала присущи Богу: сущность, энергия и триада Божественных Ипостасей" (29).
Такое тройственное различение выглядит неизбежным, если отбрасывается августиновский вариант учения о Троице и предпочитается каппадокийский. Ибо, по сути, если Лица есть лишь отношения, внутренне присущие Сущности, то откровение Божие, если оно вообще возможно, оказывается Откровением либо "сущности", либо "аналогичных" сотворенных знамений, тогда "энергии" есть либо от "сущности" Божией, или же от тварных знамений, а реального различения в Боге нет. Но если, напротив, Лица отличаются от Сущности, Которая у них общая, но трансцендентная и недоступная человеку, и если во Христе человек встречает Бога "лицом к лицу", так что есть реальное "участие" в Божественном существовании, то это участие в Божественном Бытии может быть только свободным даром от Бога, который охраняет недоступный характер Сущности и трансцендентности Бога. Это отдавание Богом Себя и есть Божественная "энергия"; Живой и Личный Бог есть несомненно деятельный Бог.
Мы видели, что учение об "энергиях" в византийской традиции являлось центральным как для понимания творения, так и христологии. Отказываясь сводить Бытие Бога к философскому понятию простой "сущности", византийская мысль утверждала полную и различимую действительность триединой ипостасной жизни Бога ad intra, как и Его "умножение" в качестве Творца ad extra. Эти два "умножения", тем не менее, не совпадают. Терминология, принятая учением об энергиях в его связи с тремя Ипостасями, окончательно установилась в паламитском синтезе XIV в.:
"Подобающие Божественным Ипостасям имена те же, что и у энергий; тогда как имена, общие для Ипостасей, суть различны для каждой из Божественных энергий. Так, жизнь есть общее имя Отца, Сына и Духа, но предведение не зовется ни жизнью, ни простотой, ни неизменностью, ни какой бы то ни было иной энергией.
Поэтому каждая из этих реальностей, которые мы перечислили, принадлежат одновременно Отцу, Сыну и Духу; но они присущи лишь одной энергии, а не всем; каждая реальность на деле имеет только одно значение. Напротив, Отец, есть надлежащее имя одной единственной Ипостаси, но оно проявляется во всех энергиях. ... И то же самое верно для имен Сына и Духа. ... Таким образом, Бог в Своей полноте вполне воплотился, Он неизменно соединен со всеми людьми... Божественной природой и всей ее силой и энергией в одной из Божественных Ипостасей. Поэтому также, через каждую из Его энергий можно участвовать во всей полноте Бога... Отца, Сына и Святого Духа... "(30).
Тройственное различение — сущность, ипостась, энергия — есть не разделение бытия Божия; оно отображает таинственную жизнь "Того-Кто-Есть" — трансцендентную, трехличностную и присутствующую в Его творении.
Формулировкам Паламы, появившимся в XIV в., предшествовали богословские определения, относившиеся к тому же тройственному различению. В 1156 и 1157 гг. в Константинополе заседали два поместных собора, занимавшиеся вопросом о том, предлагается ли Жертва Христова, и в ее историческом, и в евхаристическом измерении, только Отцу или Святой Троице. Сотерих, богослов, подвергся тогда осуждению за то, что считал акты предложения и приятия составляющими ипостасные характеристики Сына и Отца соответственно — соборы сочли это мнение смешением "имманентной" и "икономной" Троицы, или смешением ипостасных свойств и "энергий". И, конечно, византийские литургии Василия и Иоанна Златоуста содержат в качестве молитвы обращенние ко Христу: "Ты бо еси приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый... ". Тайна ипостасной жизни, как она открылась в Воплощении и в акте Искупления, выражена и в византийском пасхальном тропаре: "О Христе неописуемый! Ты наполнил все сущее: во гробе телесно, в аду душою как Бог, в раю с разбойником; и ты же восседавши еще на Божественном Престоле со Отцем и Духом", — этот тропарь повторяется священником в алтаре.
Следовательно, даже если один Отец есть Тот, к Кому обращается Евхаристическая молитва, сам акт "приятия" жертвы — деяние Троичное, как вообще все божественные акты od extra (31). Тайна Воплощения состоит в том, что Божественная Ипостась Логоса приняла также и роль предлагаемого, жертвы, приводя человечество с Собою к престолу Отца. Евхаристическое жертвоприношение и является собственно этим предложением, осуществленным в Теле Христовом, где природа человека пронизана Божественной энергией, принятой, как это есть, Ипостасью Логоса.
Ипостасное, личное существование подразумевает "открытость", которая делает возможным для Воплощенного Логоса "предлагать"
и "принимать", быть человеком и Богом, и оставаться, со Отцем и Духом, "деятелем" "энергий", характеризующих Божественную природу.
3. Живой Бог
"Бог, говоря с Моисеем, не сказал: "Я есмь сущность", но: "Я есмь Сущий" (Исх. 3:14). Следовательно, не Тот-Кто-есть" является из Сущности, но Сущность является из Того-Кто-есть, ибо Тот-Кто-есть объемлет Собою все бытие" (32). Когда Палама в недавно процитированном фрагменте явно ссылается на библейское учение о Живом Боге или когда он отказывается отождествлять Бытие Божие с философским понятием сущности — "Сущность есть по необходимости бытие, но бытие не есть обязательно сущность" (33) — он выражает самую суть своего спора с Варлаамом и Акиндином, но также поддерживает богословие каппадокийских отцов.
Мы уже отмечали, что конфликт внутри византийского общества, противопоставивший монахов "гуманистам", затронул и понимание человеческой участи, основанное на Библии и противоположное тому, которое опиралось на платонический спиритуализм. Сходная проблема возникла на уровне собственно "богословия", то есть учения о Боге. Вопрос усложняло то обстоятельство, что латинская схоластика снабдила византийских антипаламитов "истинным греческим" толкованием Божественного Бытия, и они с готовностью обратились в Latinophrones, т.е. "латиноумствующих".
Ибо, разумеется, действительное значение спора о "Филиокве" состояло в том, что спорящие стороны избрали разные подходы к Богу. Восток отказывался отождествлять Бытие Божие с понятием "простой сущности", тогда как Запад принимал это отождествление на основе предпосылок, отвечающих традициям греческой философии. Вопрос определенно невозможно было решить с помощью собраний "доказующих текстов" из Писания и творений отцов, если даже явно можно было добиться согласия на каноническом уровне (скажем, относительно односторонней вставки латинян во всеобщий Символ Веры) и в терминологии (к примеру, Восток бы пошел на признание происхождения "от обоих" на Уровне "икономии"). Противоречие на самом деле возникло, как это формулирует Владимир Лосский, из того факта, что:
догматом "Филиокве" Бог мудрецов и ученых был введен на место Живого Бога... Неисповедимая Сущность Отца, Сына и Святого Духа получила положительное определение. Она стала предметом естественного богословия, науки, занимающейся "абстрактным Богом", который может быть Богом Декарта, Богом Лейбница и даже, в какой-то мере, Богом Вольтера и дехристианизированных деистов XVIII
в." (34).
Это умозаключение может казаться некоторым слишком уж сильным. Однако и характерно, и воодушевляюще выглядит то обстоятельство, что те современные богословы на Западе, которые наиболее озабочены тем, чтобы вновь придать христианскому богословию керигматичность и привлекательность, которым оно обладало в иные эпохи, вновь и вновь говорят о возвращении к доавгустиновским понятиям Бога, "где три Ипостаси усматривались прежде всего в их личных, несводимых функциях" (35). "Без нашего опыта Отца, Сына и Духа в спасительной истории, мы не сумеем в конечном счете вообще постичь их существенной различности как единого Бога" (36).
Примечания
1. Oratio 45, 4; PC 36:628С.
2. Oratio 40, 41; PG 36:417ВС.
3. Обе цитаты из кн.: Георгий Флоровский. Восточные Отцы. — Париж: ИМКА-Пресс, 1931, с. 23.
4. Трактат был адресован То Ablabius, ed. F. Mueller (Leiden, 1958), p. 37-57.
5. Theodore de Rйgnon, Etudes de thйologie positive sur la Sainte Trinitй (Paris, 1892), I, 433. See also G. L. Prestige, Cod in Patristic Thought (London: SPCK, 1952), p. 233-241, а также J. N. D. Kelly, Early Christian Doctrines (London: Black, 1958), p. 253-279.
6. De Rйgnon, Etudes, I, 365.
7. Karl Rahner, The Trinity, trans.. Joseph Donceel, S.J. (London: Burns & Oates, 1969), p. 110-111.
8. Lossky, Mystical Theology, p. 47.
9. Oratio 39, 11; PG 36:345CD.
10. Gregory of Nazianzus, Oratio 31, 9; PG 36:144л.
11. Gregory of Nazianzus, Poem. Dogm. 20,3; PG 37:414д.
12. Gregory of Nazianzus, Oratio 31, 41; PG 36:149л.
13. Basil, Ep. 38, 4; PG 32:329CD.
14. Basil, Contra Sab., 3; PG 31:605A.
15. Oratio 42, 15; PG 36:476B.
16. Pseudo-Dionysius, De dw. nom. 2, 7; PG 3:645в.
17. De fide orthodoxa 1, 8; PG 94:324Я; пер. на англ. яз. см. в кн.: F. H. Chase, Fathers of the Church 37 (New York, 1958), p. 184.
18. Gregory of Nazianzus, Oraiio 40, 41; PG 36:417в.
19. Adv. Craecos; PG 45:180.
20. Цветная Триодь (Athens: Phos, 1960), p. 218.
21. K. Rahner, op. cit., p. 68.
22. Capita theol. et oecon. II, 1; PG 90:1125A.
23. Op. cit, p. 64.
24. See G. L. Prestige, op. cit., p. 257-260.
25. Op. cit., p. 260.
26. Термин впервые был использован в христологии (см. Prestige, God in Patnstic Thought p. 291-299); к ипостасным отношениям его начали применять псевдо-Кирилл и Иоанн Дамаскин.
27. Труд Августина "О Троице" перевел на греческий язык Максим Плануд в XIII в., и потому он мог быть известен Паламе.
28. Cap. phys. 36; PG 151:114θ-Ι145Α.
29. Сар. phys. 75; PG 15I:I173В.
30. Against Akindynos, V, 27; не опубликовано, однако цитируется в кн. Meyendorff, Gregory Ρα/amas,
ρ 220.
31. О Соборах 1156 и 1157 гг., см. J. Meyendorff, Christ, p. 152-154.
32. Gregory Palamas, Triads III, 2, 12; ed J. Meyendorff, in Spicilegium Sacrum Lovaniense, 31 (Louvain, 1959); Палама перефразирует Григория Богослова, Oratio 45, 3; PG 36:625c.
33. Against Akindynos 2, 10, не опубликовано, процитировано в кн. Meyendorff, Gregory Palamas, p. 213.
34. См. статью «The procession of the Holy Spirit in the Orthodox Triadology» в изд. Eastern Churches Quarterly. Supplemental issue Concerning the Holy Spirit (1948), p. 46. См. также дебаты о "Шилиокве" между православными (епископ Кассиан, Мейендорф, Верховской и др.) и римокатолическими (Камело, Буайе, Анри, Дюбарль, Донден и др.) богословами, отчет о которых опубликован в изд. Russie et Chrйtientй (1950), № 3-4.
35. Cf. J. Meyendorff, Christ, p. 166.
36. K. Rahner, op. cit., p. 111.
15. САКРАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЯ: ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
В своей книге "Жизнь во Христе" — комментарии на Крещение, Миропомазание, Причащение — Николай Кавасила пишет:
"Это возможно святым в сем нынешнем мире не только быть расположенными и приуготованными к [вечной] жизни [во Христе], но даже и сейчас жить и действовать согласно таковой" (1).
Царствие Бога, предвкушение эсхатологического исполнения, уже доступны в Теле Христовом: эта возможность "бытия во Христе", "участия" в Божественной жизни — "естественном" состоянии человека — для византийцев существенно проявлены в церковных таинствах, или mysteria, Церкви. Эти таинства понимаются как обособленные акты, через которые частичная "благодать" нисходит на отдельные личности посредством верно назначенных священников, действующих с верным намерением, а более как аспекты уникальной тайны Церкви, в которой Бог делится с человечеством Божественной жизнью, вызволяя человека от греха и смерти и даруя ему славу бессмертия.
1. Количество Таинств
Византийское богословие игнорирует западное различение между "sacraments" и "sacramentals" и никогда формально не ограничивало себя каким-то строгим числом таинств. В патристическую эпоху не существовало даже специального термина для обозначения "таинств" как особенной категории церковных деяний: термин misterion99использовался вначале в более широком и общем смысле "тайны спасения" (2), и только как вспомогательное обозначение частных действий, дарующих спасение. В этом втором смысле данный термин употреблялся параллельно таким терминам, как "обряды" и "освящения" (3). Феодор
Студит в IX в. приводит список из шести таинств: святое "освящение" (Крещение), "синаксис"100 (Евхаристия), святое Миропомазание, рукоположение во священники или епископы, пострижение в монахи и погребальная служба (4). Учение "семи таинств" в первый раз появляется — что очень показательно — в Исповедании Веры, полученном от императора Михаила Палеолога папой Климентом IV в 1267 г. (5). Это Исповедание, разумеется, подготовили латинские богословы.
Явно западное происхождение этого скупого перечня таинств не помешало его широкому принятию восточными христианами, начиная с XIII в. Список таинств приняли даже те, кто яростно сопротивлялся попыткам примириться с Римом. Похоже, что это быстрое перенятие стало результатом не только влияния латинского богословия, но и средневекового восхищения Византии символическими числами: число "семь" вызывало особенно богатые ассоциации, наводя на мысль, скажем, о семи дарах Духа у Исайи (11:2—4). Но у византийских авторов, принявших "семь таинств", обнаруживаются разные конкурирующие списки. Монах Иов (XIII в.), автор диссертации о церковных таинствах, включает в свой список пострижение в монахи, как это было в перечне Феодора Студита, но соединяет в одном Таинстве покаяние и помазание болящих (6). Симеон Фессалоникский, живший в XV столетии, также отмечает таинственный характер пострижения в иноки, но объединяет его с покаянием, а вот соборование у него — отдельное Таинство (7). Между тем Иоасаф, митрополит Эфесский, современник Симеона, провозглашает: "По-моему, таинств в Церкви не семь, но больше", и предлагает свой перечень из десяти таинств, включающий освящение церкви, погребальную службу и пострижение в монахи" (8).
Очевидно, Византийская Церковь формально никогда не признала какого-то конкретного перечня; многие авторы принимают стандартный ряд из семи таинств — Крещение, Миропомазание, Евхаристия, священство, брак, покаяние и елеосвящение, — тогда как иные предлагают более пространные перечни. Но есть и третьи — они настаивают на исключительном и выдающемся значении Крещения и Евхаристии, основного христианского посвящения в "новую жизнь". Так, Григорий Палама провозглашает, что "в этих двух [таинствах], все наше спасение укоренено, поскольку вся икономия Богочеловека восстанавливается в них" (9). А Николай Кавасила сочиняет свой знаменитый труд о "Жизни во Христе" как толкование Крещения, Миропомазания и Евхаристии.
2. Крещение и Миропомазание
В Восточной Церкви крещение и конфирмация (последняя совершалась через помазание "святым миром", освященным епископом) обыкновенно совершались совместно. Сразу же по принятии Крещения и Миропомазания ребенок допускался к Евхаристическому общению. Не было, стало быть, практического различения между приятием ребенка или взрослого в число
членов Церкви: в обоих случаях человеческое существо, принадлежавшее "ветхому Адаму" через свое естественное рождение, вводится "в новую жизнь", приобщаясь Крещения, Миропомазания и Святого Причастия. Христианское посвящение есть один единственный и неделимый акт. "Если кто не получил миропомазания, тот не совершенно крещен", — пишет Симеон Солунский (10).
Как мы уже видели, патристическое учение о спасении опирается не на идею унаследованной от Адама вины, от которой человек вызволяется во Христе, но зиждется на более экзистенциальном понимании как "падшей", так и "искупленной" человечности. От "ветхого Адама", через свое естественное рождение, человек унаследовал ущербную форму жизни — ограниченную смертностью, неизбежно грешную, сопряженную с недостатком свободы от "князя мира сего". Альтернативой такому "падшему" состоянию является "жизнь во Христе", истинная и "естественная" человеческая жизнь, дар Божий, ниспосланный в Таинстве Церкви. "Крещение, — пишет Николай Кавасила, — есть не что иное, как рождение во Христе и ради приятия самого нашего бытия и природы" (11).
В обряде Крещения и в богословских комментариях византийского периода акцент делается на положительном значении Крещения как "нового рождения". "Благодетельный день Крещения, — продолжает Кавасила, — становится днем наименования для христиан, потому что тогда они образуются и обретают облик, а наша жизнь получает облик и определение" (12). Опять же, по Кавасиле все обозначения Крещения в Писании и Предании указуют на одно и то же положительное значение: "рождение", и "новое рождение", "обновление" и "печать", как и "крещение" и "облачение" и "помазание", "дар", "просвещение", и "омовение" — все обозначают одно и то же: что обряд есть начало существования для тех, которые суть и живут в согласии с Богом" (13).
Если считать Крещение "новым рождением", то при этом подразумевается, что это еще и свободный дар от Бога и он, этот дар, никоим образом не зависит от человеческого выбора, согласия и даже сознания: "Точно так, как в случае рождения телесного, мы даже волею не участвуем во всех благословениях, происходящих из Крещения" (14). На Востоке, следовательно, не бывало никогда серьезных сомнений или споров насчет правомерности Крещения младенцев. Такая правомерность опирается не на идею "греха", который может представить младенцев виновными в очах Божиих и нуждающимися в Крещении ради оправдания, но на том, что на всех этапах жизни, включая младенчество, человек нуждается в том, чтобы "родиться
вновь", — то есть начать новую и вечную жизнь по Христе. Ведь и "сознательный взрослый" не в состоянии вполне постичь конечную эсхатологическую цель новой жизни.
"Точно так, как невозможно понять власть очей или милость цвета без света, или как нельзя спящим узнать о делах тех, которые бодрствуют, пока первые спят, таким же образом в этой жизни невозможно понять новых членов и их способности, которые направлены лишь к жизни грядущей. ... Однако же мы — члены Христовы, и это есть плод Крещения. Блеск и красота членов зависят от Главы, ибо не станут члены прекрасными, пока они не прилепятся к Главе. От этих членов Глава сокрыта в нынешней жизни, но ясно явится, когда они воссияют вместе со Главою" (15)...
Таким образом, через Крещение человек является членом Тела Христа и становится "теоцентричным" — то есть восстанавливает свое первоначальное предназначение, которое эсхатологично и таинственно, потому что соучаствует в самой тайне Бога. Как Божественный дар, посланный взрослому или же младенцу, Крещение есть начало новой жизни. Как пишет Феодорит Кирский:
"Если б единственным смыслом Крещения было оставление грехов, зачем бы тогда крестили новорожденных, которые еще не успели вкусить греха? Но таинство Крещения не ограничивается этим; Крещение есть обетование больших и совершеннейших даров. В нем суть обетования грядущих радостей; оно есть образ будущего воскресения, общение со Страстями Господними, участие в Его Воскресении, риза спасения, одеяние радости, облачение из света или, скорее, сам свет" (16).
Как "начало" и обещание новой жизни Крещение подразумевает самоопределение и рост. Оно не подавляет человеческую свободу, но восстанавливает ее в изначальном и "естественном" виде. В случае Крещения младенцев это восстановление, конечно, лишь потенциально, но Таинство всегда подразумевает призвание к свободе. В византийской традиции формула Крещения произносится, в отличие от Запада, не от имени священнослужителя, совершающего Таинство (на Западе священник говорит: "Я крещу тебя"), но делается торжественное заявление от имени крещаемого: "Раб Божий, имярек, крещается во имя Отца и Сына и Святаго Духа". "Это, — пишет Симеон Солунский, — знаменует свободу крещаемого" (17). После Крещения путь к Богу — это "синергия"101 силы Бога и свободного человеческого усилия. И еще это освобождение от уз сатаны — тирана и узурпатора, — что обозначается экзорцизмами, которые предшествуют собственно таинству Крещения (18).
Византийская традиция сохранила древний христианский обычай крестить тройным погружением. В самом деле, иногда погружение считали существенным для действительности Таинства, а некоторые крайние антилатинские полемисты оспаривали действительность западного обряда Крещения на том основании, что латиняне крестили
обливанием. Погружение есть само знамение того, что означает Крещение. "Вода уничтожает одну жизнь, но открывает другую; она топит ветхого человека и выносит нового", — пишет Кавасила (19). "Топление" не может быть символизировано иначе, чем через погружение.
Человека, освобожденного через Крещение от рабства сатаны, Дух наделяет способностью "быть деятельным в духовных энергиях", как это сформулировал Кавасила в другом месте (20).
Мы уже видели, что византийское патристическое богословие признает связь между дарами Духа и человеческой свободой; искупление человечества подразумевает, что не только человеческая "природа", но и каждый человек, свободно и лично, отыщет для себя место в новом творении, "вновь повторит в себе" Христа. Дар Духа в Миропомазании — это главное сакраментальное знамение этого частного измерения спасения, которое, согласно литургической норме, неотъемлемо от Крещения. Поэтому "жизнь во Христе" и "жизнь в Духе" суть не две отдельные формы духовности: это — взаимодополняющие стороны той же дороги, ведущей к эсхатологическому "обожению".
Обыкновенно объединяющееся с Крещением в одном обряде христианского посвящения, Миропомазание совершается отдельно лишь в случаях примирения с Церковью определенных категорий еретиков и схизматиков, перечисленных в Каноне 95 Трулльского собора. Значение Миропомазания, таким образом, подтверждает действительность 102 "печати дара Святого Духа" (эту формулу произносит священник, совершая помазание) христианского Крещения, совершенного в необычных обстоятельствах — то есть за каноническими пределами Церкви.
3. Покаяние
Сакраментальное покаяние — то есть примирение с Церковью после грехов, совершенных после принятия Крещения, — развивалось на Западе и Востоке параллельно. Вначале оно было публичным действом — покаяния требовали от грешников, которые были официально отлучены от церковного общения или же совершили деяния, заслуживавшие отлучения. Но постепенно, особенно после IV столетия, покаяние приняло форму частной исповеди, за которой следовала молитва об отпущении грехов, произносимая священником. А затем покаяние почти полностью слилось с обычаем получения частных духовных наставлений, особенно широко распространенных в монашеских общинах.
Развитие практики и богословия покаяния в византийском мире отличалось от их аналогичного развития на Западе тем, что Восток никогда не знал влияния узаконенных истолкований спасения, наподобие учения Ансельма об "удовлетворении". К тому же Восток никогда не сталкивался с кризисами, сравнимыми с западной Реформацией и Контрреформацией, а последняя, как известно, делала особенный акцент на авторитете духовенства.
Патристическая и византийская литература о
покаянии имеет в основном характер исключительно аскетический и моральный. Очень немногие авторы аскетических трактатов о покаянии упоминают о сакраментальном разрешении грехов как о формальном требовании. Это умолчание не означает, что не существовало сакраментального покаяния; но кроме случаев формального отлучения от Причастия, после которого должно было последовать формальное примирение с Церковью, такое покаяние поощрялось, но на нем не настаивали, как на чем-то обязательном. В своих бесчисленных призывах к покаянию Златоуст часто упоминает "исповедь", то есть открытие собственной совести при свидетеле или "перед Церковью"; но создается впечатление, что он вовсе не имел в виду регулярную исповедь в храме. В девяти проповедях, которые он специально посвятил "покаянию", он лишь однажды упоминает о Церкви как непосредственной утешительнице: "Ты согрешил? Войди в Церковь и покайся в своем грехе. ... Ты уже старый, а все еще грешишь? Входи [в Церковь], кайся; ведь тут врач, не судья; тут не допрашивают, тут отпускают грехи" (21).
Французский церковный историк, видимо, прав, когда пишет: "Византийцы редко ходили к исповеди, по крайней мере, миряне, тогда как в монастырях... исповедь практиковалась регулярно. Но была ли это исповедь или же просто наставление духовного отца, направлявшее совесть простого мирянина? Существовали оба обычая, а в монастырях они были неотличимы друг от друга" (22).
Аскетическая и каноническая литература часто упоминает о требованиях к кающемуся — о периодах времени, на которые грешник отлучается от церковного общения, о поклонах и благотворительности, требуемых в качестве воздаяния за совершенные и исповеданные грехи; но если речь идет не о "смертных" грехах — убийстве, вероотступничестве, прелюбодеянии, — влекущих за собою формальное отлучение, то нигде нет свидетельств того, что произносимое священником разрешение от грехов считалось необходимым для скрепления акта покаяния. Напротив, множество источников описывают разрешения, дающиеся нерукоположенными монахами (23), и этот обычай сохранился в восточных монастырях и до сего дня.
Разнообразные формы разрешения или отпущения грехов, обнаруживающиеся в византийских "славословиях" (euchologia) и пенитенциалах (покаянных книгах) (24), всегда оформлены как молитва. "На Востоке, — пишет А.Алмазов, — всегда понимали, что разрешение выражается через молитву, и, даже если и использовалась какая-то ; декларативная формула, она подразумевала, что отпущение грехов принадлежит одному лишь Богу" (25). Все декларативные формулы ( Я, недостойный иерей, ... прощаю и разрешаю..."), прокравшиеся в некоторые восточные — греческие и славянские — "эвхологии", имеют постсхоластическое латинское происхождение и были усвоены
в рамках общей латинизации византийского обряда.
Сами византийские богословы испытывали неуверенность в определении точного статуса покаяния в ряду mysteria (таинств) Церкви, и нередко помещали его в своем списке таинств вместе с пострижением в монахи и елеопомазанием болящего. К XV столетию, однако, личная исповедь священнику, за которой следовала разрешительная молитва, стала у мирян общепринятым обычаем, а в монастырях продолжала существовать в качестве альтернативы исповедь нерукоположенным монахам. Такое отсутствие ясности и в самой практике, и в богословском обосновании имело и положительное следствие: испо ведь и покаяние истолковывались преимущественно в качестве разно видности духовной терапии.
Ибо грех в восточнохристианской антропологии это, прежде всего, недуг, "страсть". Не отрицая привилегированного права Петра на ключи, дарованные всему епископату, или апостольскую власть разрешать грехи, а Церковь — носительница этой власти, византийские богословы никогда не поддавались соблазну низведения греха к понятию преступления, которое влечет вынесение приговора, наказание или прощение. Нет, византийские богословы всегда помнили, что грешник — это прежде всего узник сатаны и как таковой смертельно болен. По этой причине исповедь и покаяние, по крайней мере в идеальном о них представлении, сохранили черты освобождения и исцеления, а не суда. Отсюда большое разнообразие форм и обычаев, наряду с невозможностью заключить это многообразие в рамки каких-то косных богословских категорий.
4. Брак
Византийская богословская, литургическая и каноническая традиция единодушно подчеркивает абсолютную уникальность христианского брака, опираясь в этом на 5-ю главу Послания к Ефесянам. Как Таинство (mysterion) брачный союз отражает союз между Христом и Церковью, между Яхве и Израилем и потому может быть только одним единственным — вечными узами, которые не разрушимы самой смертью. В своей сакраментальной природе брак преображает и превосходит телесный, плотский союз, и договорное соединение, подкрепляемое заключаемым по закону контрактом: любовь человеческая проецируется в вечное Царство Божие.
Лишь такое основополагающее понимание христианского брака может объяснить тот факт, что до X столетия ни один повторный брак, вступали ли в него овдовевшие или же разведенные, не благословлялся в Церкви. Имея в виду обычай "коронования" брачующейся пары — который представляет собой характерную черту византийского обряда бракосочетания, — канон, приписываемый Никифору Исповеднику (806—815), уточняет: "Те, кто вступают во второй брак, не венчаются и не допускаются к пречистым таинствам в течение двух лет; те же, кто вступают в третий брак, отлучаются на пять лет" (26). Этот текст, только повторяющий более ранние предписания
канонов Василия (27), предполагает, что второй и третий браки овдовевших или разведенных могут считаться лишь гражданскими договорами. На самом деле, если супружество получало благословение, дарованное на Евхаристии, где новобрачных причащали, то требуемое временное отлучение исключало участие Церкви или ее благословение в случаях, когда вступали в повторные браки.
Полнейшая неповторимость как норма христианского брака утверждалась также повышенной требовательностью византийского канонического права к духовенству: человек, который был женат дважды или же первым браком, но на вдове или разведенной, не признавался подходящим кандидатом на посвящение в диаконы или священники (28). Но миряне, после периода покаяния и отлучения от церковных таинств, вновь допускались к полному общению с Церковью, даже после второго или третьего брака; понимание и терпимость распростирались и на них, когда они или не могли согласиться на одиночество или же решали воспользоваться вторым шансом для создания истинно христианского супружества. Очевидно, что византийская традиция подходила к вопросу о повторном бракосочетании — после вдовства или развода — в рамках покаянной дисциплины. Брак как Таинство подразумевает получение благодати Божией; но чтобы эта благодать действовала, необходимо участие человека ("синергия"). Это верно в отношении всех таинств, но особенно Крещения, плоды которого могут быть растрачены грехом и вновь обретены через покаяние. Что же касается брака, который предполагает личное понимание и психологическое подстраивание двух людей, то византийский обычай признавал возможность первоначальной ошибки, заодно соглашаясь с тем, что жизнь в одиночестве, в случаях смерти партнера или просто его отсутствия, есть большее зло, чем повторное вступление в брак тех, кто не в силах "вынести" одиночество.
Возможность развода во все эпохи оставалась неотъемлемой составляющей византийского гражданского законодательства. В рамках "симфонии", т.е. согласия между Церковью и государством, право на развод никогда не оспаривалось, — факт, который никак нельзя объяснить, ссылаясь лишь на цезарепапизм. В Византийской Церкви никогда не было недостатка в святых, всегда готовых клеймить имперский деспотизм, социальную несправедливость и прочее зло, противное Евангелию. Иоанн Златоуст (398—404), Феодор Студит (ум. в 820 г.) или патриарх Полиевкт (956—970) находили в себе силы бесстрашно выступать против властей; никто из них, тем не менее, не выступал против законодательства о разводе. Очевидно, они считали развод неминуемым фактором человеческой жизни в падшем мире, где человек волен и принять благодать, и отвергнуть ее; где грех неизбежен, но и покаяние всегда доступно; где церковным будет не компромисс, предающий нормы Евангелия, но сочувствие и милосердие к человеческой слабости.
Этот подход Византийской Церкви выдерживался вполне строго до тех пор, пока оставались ясно различимыми первейшие функции Церкви (Церковь должна
добиваться присутствия в человеческой жизни Царства Божия) и функции государства (ему надлежит управлять падшим человечеством, выбирая меньшее зло и поддерживая порядок законными средствами). В вопросе о браке это существенное различие исчезло (по меньшей мере, на практике), когда император Лев VI (ум. в 912 г.) издал свою Новеллу 89, формально наделившую Церковь законной обязанностью удостоверять действительность всех бракосочетаний (29). Гражданский брак как законный вариант жизнеустройства свободных граждан исчез; а вскоре, что вполне логично, Алексий I Комнин вменил в обязанность рабам оформление бракосочетания в Церкви. Этими постановлениями имперская власть теоретически предоставляла Церкви формальный контроль над супружеским поведением всех граждан.
На деле, однако, на Церковь перекладывалась прямая ответственность за те неминуемые компромиссы, которые прежде разрешались возможностью гражданских браков и разводов, причем заодно исчезала возможность применения покаянных обычаев. Если уж Церковь получила законную власть над институтом брака, то ей же приходилось теперь справляться с юридическими затруднениями, сопряженными с ее новой ответственностью. Разумеется, она стала "даровать разводы" (прежде они разрешались только светскими судами) и дозволять "перевенчивания" в храмах; ведь без такого "перезаключения брака" второй или третий брак, по новому закону, оставался бы юридически ничтожным. Правда, Церковь добилась признания полной недействительности четвертого брака (на Соборе в 920 г.) (30), но ей пришлось пойти на уступки по многим иным вопросам.
Однако Церкви удалось сохранить в основном принципе существенное различение между первым и последующими вступлениями в брак: для повторных бракосочетаний была разработана специальная служба — венчание отделялось от Евхаристии и всему чину придан был покаянный характер. Благодаря этому становилось понятным, что второй и третий браки не являются нормой и как таковые имеют сакраментальный недостаток. Самое большое различие между византийским богословием брака и ее средневековым латинским соответствием состоит в том, что византийцы сильно подчеркивали единственность христианского брака и вечность супружеских уз; византийцам и в голову не приходило, что бракосочетание — это юридический договор, автоматически теряющий силу после смерти одной из договаривающихся сторон.
В Византии терпимо относились к вступлению в брак вдовца или вдовы, как и к браку после развода. Но эта "терпимость" не равнозначна одобрению. Она подразумевала покаяние, и повторный брак дозволялся лишь тем мужчинам и женщинам, чьи предыдущие супружества могли рассматриваться в качестве практически несуществующих (различные своды имперских законов перечисляли возможные варианты такого положения). Тем временем латинский Запад не терпел юридического развода, но признавал,
причем без ограничения, право на любое число повторных вступлений в брак для вдовца или вдовы. Руководствуясь в своей практике правовым понятием контракта, нерасторжимого до тех пор, пока живы обе стороны, заключившие договор, Запад, кажется, не принимал во внимание то соображение, что брак, если он является Таинством церковным, проецируется, в качестве вечных уз, в Царство Божие; и, подобно всем иным таинствам, брак предполагает свободный ответ и возможность того, что человек отвергнет брак или ошибется в нем и что, после такого грешного отказа от брака или ошибки, все же всегда остается возможность покаяться и начать с начала. Таковы были богословские основания терпимости раннехристианской Церкви в отношении разводов, таковыми они оставались и в Византии.
5. Исцеление и смерть
Часто объединявшееся в единое Таинство с покаянием, проведение "соборования" так и не развилось, если не считать ряда областей на христианском Востоке, где после XVI в. это произошло — в Таинство "последнего помазания", совершаемого только над умирающими. В Византии таинство Соборования представляло собой обряд священнослужителей (обычно семи, согласно стиха Иак. 5:14, который считался библейским основанием этого Таинства). Оно состояло из чтения отрывков из Писания и вознесения молитв об исцелении, тексты которых решительно не допускали магических толкований обряда. Исцеление испрашивалось лишь в рамках покаяния и духовного спасения и вовсе не считалось целью самой по себе. Каков бы ни оказался исход недуга, само помазание знаменовало Божественное прощение и освобождение из порочного круга греха, страдания и смерти, в котором пленено падшее человечество. Сочувствуя страданиям человека, Церковь устами своих пресвитеров испрашивает облегчения, прощения и вечной свободы для своего страждущего члена. Таков смысл святого помазания тела.
Погребальная служба, также считавшаяся некоторыми византийскими авторами "таинством", не имела какого-то иного значения. Равно и в смерти христианин остается членом Живого и воскресшего Тела Христова, в Которое он был включен через Крещение и Евхаристию. На заупокойную службу Церковь собирается, чтобы засвидетельствовать эту истину, зримую лишь очами веры, но уже переживаемую каждым христианином, обладающим благоговейным страхом перед грядущим Царством.
Примечания
1. Cabasilas, De vita in Christo, l, 3; PG 150:4900.
2. См., напр., Chrysostom, Horn. 7,1 in I Cor.; PG 61:55.
3. Chrysostom, Catйchиses baptismales, ed A. Wenger, Sources Chrйtiennes 50 (Paris: Cerf, 1957), II, 17, p. 143.
4. Ep. II, 165; PG 99:1524в.
5. G. M. Jugie, Theologia dogmatica Christianorum orientalium, III (Paris, 1930), p. 16.
6. Цитируется у M. Jugie, там же, с. 17-18.
7. De sacramentis, 52; PG 155:197д.
8. Responsa canonka, йd. A. I. Almazov
(Odessa, 1903), p. 38.
9. Нот. 60. ed. S. Oikonomos (Athens, I860), p. 250.
10. De sacramentis, 43; PG 155:188д.
11. De vita in Christo, II, 3; PG 150:524л.
12. Там же, 4, 525л.
13. Там же, 524с.
14. Там же, 5, 525D.
15. Там же, 22:548ВС.
16. Haeret. fabul. compendium 5, 18; PG 83:512.
17. De sacramentis, 64; PG 155:228о-229в. See also Manuel of Corinth, Apology 7, PG 140:480.
18. Nicholas Cabasilas, loc. cit., 6:528в.
19. Там же, 9:532в.
20. Там же, III, 1; 569л.
21. De penitentia. III, 1; PG 49:292.
22. J. Pargroire, l'Eglise byzantine de 527 a 847 (Paris: Lecoffre, 1932), p. 347.
23. Там же, с. 348.
24. Самые ранние из имеющихся рукописей относятся к X в. Самое лучшее собрание покаянных обрядов в греческом и славянском вариантах см. в кн.: А.Алмазов. Тайная исповедь в православной восточной церкви. III. Одесса, 1894.
25. Ор cit., I, p. 149-150.
26. Канон 2, см. Syntagma Canonum IV, edd. G. Rhalles and M. Potles (Athens, 1854), p. 457. О брачной дисциплине в Византийской Церкви см., прежде всего: J. Zhishman, Das Eherecht der orientalischen Kirche (Vienna, 1864); K. Ritzer, Le manage dans les йglises Chrйtiennes du I au XI siиcle (Paris: Cerf, 1970), p. 163-213; and J. Meyendorff, Marriage: An Orthodox Perspective (New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1971).
27. Особенно см. каноны 4 и 50 в упомянутой кн. Rhalles-Potles, op. cit., p. 102 and 203.
28. Пято-Шестой собор, канон 3, там же, II, с. 312-314.
29. Les novelles de Leon VI, le Sage, ed. A. Dain (Paris: Belles Lettres, 1944), P. 294-297.
30. Rhalles-Potles, op. cit.. V, p. 4-10.
16. ЕВХАРИСТИЯ
Термальный консерватизм был одной из главных особенностей византийской цивилизации, распространяясь как на светские, так и на сакральные стороны жизни, и особенно проявляясь в формах Литургии. Но если открыто декларировалось намерение оставить все так, как есть, если структура Евхаристии не менялась с первых столетий христианства и даже сегодня сохраняет вид, сложившийся в IX столетии, то истолкование слов и жестов претерпевало существенные перемены и развитие. Итак, византийский ритуальный консерватизм явился орудием сохранения изначального христианского lex orandi, интерпретированного в контексте платонического или морализированного символизма, что, впрочем, иногда случалось. В то же время этот консерватизм позволял, когда это бывало уместно — особенно примечательны примеры Николая Кавасилы и исихастских богословов XIV в., — строго подтвердить исконный сакраментальный реализм в литургическом богословии.
1. Символы, образы, реальность
Начальное христианство и патристическое Предание понимали Евхаристию как Таинство подлинного и реального общения со Христом. Говоря о Евхаристии, Златоуст настаивал, что "Христос и ныне присутствует, и ныне действует" (1); а Григорий Нисский, несмотря на склонность его мысли к платонизму, по-другому излагает то же воззрение на Евхаристию — как на Таинство действительного "участия" в прославленном Теле Христовом как семени бессмертия.
"Раздаянием милости Своей Он сеет Себя во всяком верующем через плоть, пресуществленные хлеб и вино, соединяя Себя с телами верующих. И этим соединением с Вечным человек также может участвовать в бессмертии. Он дарует это в силу благословения, которым Он переначаливает [metastoicheiosis] природное качество сих зримых вещей в ту нетленную вещь" (2).
Участие в этих источниках бессмертия и единства — постоянная забота всякого христианина:
Хорошо и благотворно причащаться каждый день [пишет Василий] и вкушать Святые Тело и Кровь Христовы. Ибо точно Он говорит: "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную" (Ин. 6:55). А кто усомнится в том, что часто участвовать в жизни есть то же самое, что иметь полную жизнь? Я же причащаюсь четырежды в неделю, по дням Господним, средам, пятницам и субботам, да и в другие дни, когда поминается какой-то святой (3).
Такое реалистическое и экзистенциальное богословие Евхаристии вступило, как мы видели (4), в противоречие с пастырскими нуждами в послеконстантиновской Церкви: собрания большого числа верующих в больших храмах привели к уменьшению участия мирян в жизни общины.
Можно попытаться доказать, что пастырские соображения, стоявшие за подобным развитием, могут быть оправданы, по крайней мере, частично; эсхатологический смысл Евхаристии подразумевал отстранение от "мира", "уход" из него "замкнутой" общины посвященных участников. А теперь, когда в империи Константина и Юстиниана стало трудно различать между Церковью и миром, потому что общество выглядело единым, Евхаристию надлежало охранять от "толпы", которая перестала быть "народом Божиим". Наиболее спорно, однако, богословское обоснование этой новой ситуации, проповедуемое некоторыми толкователями Литургии, которые начали объяснять Евхаристию как систему символов, подлежащих "созерцанию"; сакраментальное участие, таким образом, исподволь заменялось умозрением. Нет нужды говорить, что подобный новый подход прекрасно вписывался в оригенист-ское и евагрианское понимание религии как восхождения разума к Богу, а литургическое деяние — лишь символ такого восхождения.
Самым действенным орудием распространения такого символического понимания
Евхаристии стали сочинения Псевдо-Дионисия. Низводя евхаристический "синаксис"103 до уровня моралистического воззвания, Ареопагит призывает своих читателей к "более высокому" созерцанию:
Да оставим несовершенные знаки эти, которые, как я говорил, превосходно изображены в преддвериях святилищ; довольно их будет, чтобы напитаться их созерцанием. Если уж мы столь озабочены, да обратимся вспять, в рассмотрение святого общения, от следствий к их причинам, и, благодаря свету, который дарует нам Иисус, мы станем способны гармонично созерцать умопостижимые реалии, в которых ясно отражена освященная благость образцов (5).
Итак, Евхаристия есть только зримое "следствие" невидимого "образца"; а совершающий Таинство, "предлагая Иисуса Христа очам нашим, показует нам ощутимым образом и как бы в некотором образе, нашу умопостижимую жизнь" (6). Потому для Дионисия "возвышеннейший смысл евхаристических обрядов и общения в Таинстве самом по себе состоит в знаменовании союза наших умов с Богом и со Христом. ... Дионисий никогда формально не представляет Евхаристическое общение как преложение Тела и Крови Христовых" (7).
Символизм Дионисия лишь поверхностно повлиял на Евхаристию как таковую, но снискал большую популярность среди толкователей Литургии. Так, великий Максим Исповедник, который более реалистично, чем Дионисий, истолковывал понятие "символа", тем не менее последовательно употребляет термины "символ" и "образ" по отношению к Евхаристической литургии вообще и к таким ее элементам, как хлеб и вино, в частности (8).
В VIII столетии этот символизм привел к серьезному богословскому спору об Евхаристии — единственному спору на эту тему, который когда-либо ведала Византия. Иконоборческий собор 754 г., осуждая употребление религиозных образов, провозгласил единственным допустимым "образом" Христа тот, что был учрежден Самим Христом — Евхаристические Тело и Кровь (9). Такое радикальное и ясное заявление было реальным вызовом Православию, и оно еще раз подтвердило неоднозначность Ареопагита и символизма в целом.
Поэтому защитники образов, особенно Феодор Студит и патриарх Никифор, решительно отвергли это притязание собора. Для Феодора Евхаристия есть не тип , но сама истина ; она есть тайна, которая восстанавливает полноту [божественного] Промысла" (10). Согласно Никифору, это сама "плоть Бога", "одна и та же вещь" с Телом и Кровью Христа (11), Который пришел, чтобы спасти саму реальность плоти человека, и Который стал и оставался "плотью", даже и после Его прославления; поэтому, в Евхаристии, "что же тогда есть предмет таинства, если плоть не настоящая? Что же тогда мы видим, совершаемое Духом?" (12).
В результате иконоборческих раздоров византийский "Евхаристический реализм", четко обособившийся от терминологии Дионисия, получил новое направление
и стал излагаться в русле христологической и сотериологической проблематики; в Евхаристии человек участвует в прославленной человечности Христовой, которая не есть "сущность Бога" (13), но Человечность, по-прежнему единосущная человеку и доступная ему как пища и питье. В трактате "Против Евсевия и Епифания" патриарх Никифор особенно осуждает оригенистскую идею, что в Евхаристии человек созерцает или участвует в "сущности" Божией (14). Для него, как и для позднейших византийских богословов, Евхаристия есть Христово преображенное, жизнедарующее, но все же человеческое тело, воипостасированное в Логосе и пронизанное божественными "энергиями".
Примечательно, что у византийских богословов невозможно найти случай употребления термина "сущность" (ousia) в евхаристическом контексте. А термины наподобие "пресуществления" (metousiōsis), полагали не подобающими для обозначения таинства Евхаристии, и обычно пользовались понятием metabole105, встречающимся в каноне Иоанна Златоуста, или такими динамичными терминами, как "переначаливание" (metastoicheiōsis) или "переназначение" (metarrhythmisis). Пресуществление (metousiōsis) появится лишь в сочинениях Latinophrones ("латиноумствующих") XIII в., и этот термин есть не что иное, как прямой перевод с латыни. Первым православным автором, который использовал это слово, стал Геннадий Схоларий, но и в его случае непосредственное латинское влияние очевидно (15). Евхаристия не есть знамение, которое надлежит "созерцать" извне, ни "сущность", отличная от человечности, но это — Сам Иисус, Воскресший Господь, Который "был узнан... в преломлении хлеба" (Лк. 24:35); византийские богословы редко выходили в своих умозрительных рассуждениях за пределы подобного реалистического и сотериологического утверждения Евхаристического присутствия как присутствия прославленной человечности Христовой.
Отвержение понимания Евхаристии как "образа" или "символа" имеет, с другой стороны, очень большое значение для понимания всего "восприятия" Евхаристии византийцами; для них Евхаристия всегда оставалась тайной, которую надлежало принимать как пищу и питье и которую нельзя "видеть" телесными очами. Эти аспекты всегда оставались скрытыми, за исключением моментов произнесения молитвы освящения и Причастия; и, в противоположность западному средневековому благочестию, они никогда не "почитались" иначе, как в рамках собственно Евхаристической литургии.
Евхаристия не могла ничего открыть мысленному взору; она есть только Хлеб Небесный. Зрению предлагалось иное средство откровения — иконы: отсюда открытие плана византийского иконостаса с фигурами Христа и святых, выставленных именно для того, чтобы их видели и почитали.
"Христос не показывается в Святых Дарах, — пишет Леонид Успенский, — Он дан в них. Он показывается в иконах. Зримая сторона реальности Евхаристии — это образ, который никак нельзя заменить ни воображением, ни созерцанием Святых Даров" (16).
В результате иконоборческих противоречий византийское евхаристическое богословие сохранило и вновь подчеркнуло таинственность и сокровенность этого самого важного литургического действия Церкви. Но оно также подтвердило, что Евхаристия есть, в сущности, трапеза, в которой возможно участвовать только через вкушение и питие, потому что Бог принял полноту нашей человечности, со всеми ее физическими и психическими функциями, чтобы привести ее к воскресению.
Византийским богословам представилась возможность указать на все вышеизложенное в их споре с латинянами, когда византийцы нападали на использование на Западе неквасного хлеба в Евхаристии. Спор об азимах (опресноках), начавшийся в XI столетии, как правило, увязал в доводах чисто символического свойства (греки, к примеру, утверждали, что евхаристический хлеб должен заквашиваться, чтобы знаменовать собою одушевленную человечность Христову, тогда как использование латинянами пресного хлеба подразумевает аполлинаризм, то есть, отрицание того, что у Христа была человеческая душа), но словопрения возникали еще и из-за того, что византийцы понимали евхаристический хлеб по необходимости единосушным человечности, тогда как латинское средневековое благочестие подчеркивало "сверхсущественность" Евхаристии, ее неотмирность. Употребление обыкновенного хлеба, такого же, который ежедневно употребляется в пищу, было знамением истинного Воплощения. "Что такое насущный хлеб [из молитвы Господней], — вопрошает Никита Стифат, — как не то, что он единосущный с нами? А хлеб, единосущный нам, есть не что иное, как Тело Христа, Который стал единосущным с нами через плоть Своей человечности" (17).
Византийцы не считали, что в таинстве Евхаристии субстанция хлеба каким-то образом превращается в иную субстанцию — Тело Христово, — но видели в этом хлебе "тип", то есть "образец" или "отпечаток" человечности: нашей человечности, которая изменилась в преображенную человечность Христову (18). В силу этой причины евхаристическое богословие сыграло столь видную роль в богословских спорах XIV в., основным вопросом которых было противостояние между концепцией самодостаточности человека и защищаемой исихастами концепции "обожения".
Великий Николай Кавасила, хотя и сохраняет привязанность к старинному символизму Дионисия, преодолевает опасности номинализма; ясно, что для него, как и для Григория Паламы, Евхаристия есть Таинство, не только "представляющее" жизнь Христову и предлагающее ее для нашего "созерцания": это время и место, где и когда обоженная человечность Христова становится нашей.
"Он не просто облекся в тело. Он также принял душу, разум, волю и все человеческое, так, чтобы Он смог соединиться со всеми нами, проникнуть в нас и растворить нас в Себе, имея во всех отношениях Свое собственное, соединененным с тем, что наше. ...Ибо поскольку невозможно для нас возвыситься и участвовать в том, что Его, Он снизошел к нам и участвует в том, что наше. И так точно Он сообразуется с тем, что он принял, что, даруя нам то, что Он получил от нас, Он дает нам Себя. Причащаясь Тела и Крови от Его человечности, мы получаем Бога Самого в души наши — Тело и Кровь Бога, и душу, ум, волю Бога — не менее, чем Его человечность" (19).
Последним словом об Евхаристии, произнесенным византийским богословием, стало, таким образом, антропологическое и сотериологическое понимание этого Таинства. "Приступая к Евхаристии, византийцы начинали не с хлеба qua 106 хлеба, но с хлеба qua человека" (20). Хлеб и вино предлагаются лишь потому, что Логос принял человечность, а они — хлеб и вино — изменились и обожились действием Духа, потому что человечность Христова преобразовалась в славу Крестом и Воскресением. Такова мысль Кавасилы в только что приведенной цитате и таков смысл канона Иоанна Златоуста:
"Ниспошли Твоего Духа Святого на нас и на эти дары, и сделай этот хлеб драгоценным Телом Христа Твоего, а то, что в этой чаше, драгоценной Кровью Христа Твоего, так, чтобы те, кто причастятся, могли бы иметь очищение души, отпущение грехов, приобщение Твоего Святого Духа, полноту Царства Небесного..."107. Хлеб сей Честное Тело Христа Твоего... А еже в Чаши сей, Честную Кровь Христа Твоего... Якоже быти причащающимся, во трезвение души, во оставление грехов; в приобщение Святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия Небеснаго...".
Таинство новой человечности par excellence, Евхаристия, для Кавасилы "единственное из таинств, совершенствующее иные таинства, поскольку они не могут без нее исполнить посвящения" (21). Христиане причащаются "непрерывно", "ибо это есть совершенное Таинство для всех целей и нет ничего, чего не давало бы оно, главным образом тем, которые имеют в нем свое участие" (22). Евхаристия есть еще и "прехвальное бракосочетание, на котором пресвятой
Жених сочетается с Церковью, как с невестой" (23); Евхаристия есть истинное Таинство, которое преображает человеческую общину в "Церковь Божию", и которое, как мы увидим позднее, последний критерий и основание церковного устроения.
2. Евхаристия и Церковь
Экклезиологическое значение Евхаристии, хотя и подвергалось всеобщему эллинистическому обозрению, которое интерпретировало ее как систему "символов", визуально созерцаемых индивидуумом, всегда сохранялось в византийском lex orandi ("закон молитвы") и подтверждалось теми, кто следовал в главном русле традиционного богословия. К примеру, в споре о неквасных хлебах византийская сторона, среди прочего, имела в виду то, что Евхаристия есть, несомненно, пасхальное Таинство, в котором наша падшая человечность преображена в прославленную человечность Нового Адама, Христа: эта прославленная человечность осуществляется в Теле Церкви.
Если уж византийское евхаристическое богословие исходило из подобных антропологических предпосылок, оно, по необходимости, должно было включать понятия "синергии" и единства человеческого рода.
Именно от основания греческого патристического учения о "синергии" надлежит отталкиваться, чтобы по-настоящему понять, почему византийцы так настаивали на эпиклесисе в Евхаристической литургии и почему эта тема стала еще одним вопросом, обсуждавшимся в XIV и XV вв. греческими и латинскими богословами. Текст эпиклесиса в том виде, в котором он появляется в каноне Иоанна Златоуста и в иных восточных литургиях, подразумевает, что это Таинство осуществляется через молитву всей Церкви ("Мы просим Тебя...") — эта концепция вовсе не обязательно исключает идею, что епископ или иерей, произносящий слова учреждения, действует in persona Chnsti, на чем настаивала латинское богословие; однако византийская концепция лишает эту идею ее исключительности, истолковывая "власть" священнослужителя совершать церковные таинства как функцию полного преклонения Телу Церкви.
В тех хорошо известных фрагментах "Комментария на Литургию", где Кавасила отстаивает эпиклесис, он верно напоминает, что все таинства осуществляются через молитву. В частности, он ссылается на освящение мира, на молитвы обряда рукоположения, обряда разрешения грехов, соборования (24). Поэтому, пишет он, "это есть предание отцов, которые получили это учение от апостолов и от их преемников, что таинства церковные становятся действительными через молитву; все церковные таинства, как я сказал, и в частности, святая Евхаристия" (25). Такая "умоляющая" форма служений вовсе не означает, тем не менее, что доктрина действительности Таинства ex opere operantis108 зависит
от достойности священнослужителя.
"Тот, кто ежедневно совершает жертвоприношение, — продолжает Кавасила, — всего лишь служитель благодати. Он не привносит в него ничего от себя; не должно ему делать или говорить ничего согласно его собственному суждению и разумению. ... Благодать совершает все; священник есть лишь служитель, да и само служение пришло к нему благодатию; он не должен относить это на свой собственный счет" (26).
Тайна Церкви, в полноте своей осуществленная в Евхаристии, преодолевает дилемму молитвы и отклика, природы и благодати, Божественного как противоположности человеческому, потому что Церковь как Тело Христово есть именно общение между Богом и человеком, где не только Бог присутствует и действует, но где и человечность становится вполне "приемлемой для Бога", вполне отвечающей первоначальному Божественному плану; сама молитва становится тогда актом общения, в котором нет места вопросу о том, будет ли она услышана Богом. Конфликт, "сомнение", обособленность и греховность по-прежнему присутствуют в каждом члене Церкви, но лишь в той мере, в какой он не совсем соответствует Божественному присутствию и отказывается сообразовываться с Ним; Само Присутствие, между тем, это — "новый завет в Моей Крови" (Лк. 22:20), и Бог не заберет его назад. Поэтому все христиане — включая епископа или священника, — порознь не более чем грешники, чьи молитвы вовсе не обязательно будут услышаны, но собираясь вместе во имя Христово как "Церковь Бога", они суть часть Нового Завета, которому Бог вечно Сам верен через Своего Сына и Своего Духа.
В качестве Божественно-человеческого общения и "синергии" Евхаристия есть молитва, обращенная "во Христе" ко Отцу и осуществляемая через нисхождение Святого Духа. Эпиклесис, следовательно, есть исполнение евхаристического действа, точно так же, как Пятидесятница есть исполнение Божественной "икономии" спасения; спасение — всегда действие Троицы. Пневматологическое измерение Евхаристии также предполагается в самом понятии "синергии"; это Дух делает Христа присутствующим в эпоху между двумя Его пришествиями: когда Божественное деяние не навязывается человечеству, но предлагается для приятия человеческой свободой и, сообщаясь человеку, делает его воистину свободным.
Во все времена византийские богословы понимали Евхаристию как средоточие сотериологического и триадологического таинства, а не просто как пресуществление хлеба и вина. Те, кто следовал символизму Дионисия, воспринимали Евхаристию в контексте эллинистического иерархического космоса и полагали ее центром спасительного деяния, осуществляемого через мистическое "созерцание", которое, однако, затрагивает судьбы всего человечества и мира. Те же, кто держался более библейских воззрений на человека и понимал историю более христоцентрически,
воспринимал Евхаристию как ключ к экклезиологии; Церковь для них являлась прежде всего местом, где Бог встречается с человеком на Евхаристии, а Евхаристия становится мерилом церковного устроения и вдохновением для всей христианской деятельности и ответственности в этом мире. В обоих случаях Евхаристия понималась в космологическом и экклезиологическом измерениях, что утверждается в формуле византийского Причащения: "Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся".
Одна из идей, которая постоянно возникает в византийской "символической" интерпретации Евхаристии, есть идея, что храм, в котором есть богослужение Евхаристической литургии, является образом нового", преображенного космоса. Эта идея обнаруживается у нескольких раннехристианских авторов и вновь появляется у Максима Исповедника (27), а позднее — у Симеона Солунского (28). Несомненно, этой идеей вдохновлялись византийские зодчие, строившие Святую Софию в Константинополе, храм, ставший образцом всех святынь на Востоке, с кругом в качестве его центральной геометрической темы. В неоплатонической традиции круг — символ полноты, есть стандартный образ Бога; Бог отражен в Своих творениях, если они восстановлены в своем первоначальном устроении.
"Он вписывает их распространение в круг и учреждает Себя образцом существ, которые Он сотворил", — пишет Максим, сразу же вслед за этим добавляя: "Святая Церковь есть образ Божий, поскольку Она, подобно Богу, осуществляет единение верующих" (29).
Церковь как община и как здание есть, следовательно, знамение нового века, эсхатологическое предвкушение нового творения, сотворенного космоса, восстановленного в своей исконной целостности. Ясно, что богослов, вроде Максима, пользуется моделями и категориями своего века для описания полноты мира грядущего. Его истолкование Евхаристической литургии таково, что это "не столько посвящение в тайну Литургии, сколько введение в тайну с Литургией как отправной точкой" (30); но сама мысль о Евхаристии как предвкушении эсхатологического исполнения утверждена в самом каноне византийской Литургии, где Второе пришествие Христово воспоминается как событие, которое уже произошло:
"Воспоминая эту спасительную заповедь и все ради нас бывшее, крест, гроб, Воскресение на третий день, восхождение в небеса, и второе и славное пришествие, мы предлагаем Тебе..."109.
Эсхатологический характер таинства Евхаристии, явно выраженный в Литургии, в религиозном искусстве, обрамляющем Литургию, и в богословских комментариях, представляющих разные школы мысли, объясняет, почему византийцы всегда верили, что в Евхаристии Церковь есть вполне "Церковь" и что Евхаристия есть последний критерий и окончательная печать всех прочих церковных таинств. Следуя
за Псевдо-Дионисием, говорившим о Евхаристии как о "таинстве таинств" (31), как об "огне" каждого частного Таинства (32), византийские богословы утверждали абсолютность того центрального положения, которое занимала Евхаристия в жизни Церкви.
"Это — конечное Таинство, — пишет Кавасила, — потому что невозможно идти альше и что-либо добавить к нему" (33). "Евхаристия приносит со-рршенство прочим таинствам, ... поскольку они не могут завершить Посвящение без нее" (34). Симеон Солунский прилагает эту идею к отдельным церковным таинствам. Относительно брака, например, он пишет, что брачующаяся пара "должна быть готова принять Причастие, дабы венчание их стало достойным, а брак — действительным"; и уточняет, что Причастие не дается тем, чей брак представляется ущербным с точки зрения церковной дисциплины и, следовательно, не будет Таинством, но всего лишь "доброй дружбой" (35).
Каждая Поместная Церковь, где есть богослужение Литургии, обладает, следовательно, признаками истинной Церкви Божией: единством, святостью, кафоличностью и апостоличностью. Эти признаки не могут принадлежать всякому человеческому собранию; они суть эсхатологические знамения, дарованные сообществу через Духа Божия. В той мере, насколько Поместная Церковь созидается на Евхаристии и вокруг нее, она есть не просто "часть" всего народа Божия; она — сама полнота Царства, предвкушаемого в Евхаристии, а Царство никак не может быть "частичным" или "частично" кафоличным. "Частичность" присуща лишь индивидуальному соответствию членов общины даруемой им полноте, ибо каждый из собравшихся в храме ограничен принадлежностью к "ветхому Адаму"; но "частичность" не существует в Теле Христовом, неделимом, Божественном, Славном.
Литургическая дисциплина и византийское каноническое право ста-, рались охранять этот объединяющий и кафоличный характер Евхаристии. В связи с этим требовалось, чтобы на одном Престоле не совершалось более одной Евхаристии в один и тот же день; подобным образом епископу или священнику не дозволялось служить в один и тот же день дважды. Каковы бы ни были проистекающие из подобных правил практические неудобства, целью этих правил было сохранение Евхаристии как собрания-, на котором, пусть хоть номинально, "все... единодушно вместе" (Деян. 2:1); всем надлежало собираться вместе у того же самого алтаря, вокруг того же самого епископа, в одно и то же самое время, потому что есть только один Христос, одна Церковь и одна Евхаристия. Мысль о Евхаристии как о Таинстве, объединяющем всю Церковь, сохранилась на Востоке и предотвратила умножение Месс по умыслу и низких Месс110. Евхаристическая Литургия всегда оставалась в Византии праздничным событием, торжеством, в котором участвует,
в принципе, вся Церковь.
110 Низкая Месса — католическая литургия, которую служит один священник без диакона, только с причетником или даже без него, и без всякого "музыкального сопровождения". Мессы по умыслу — мессы (чаще низкие), соединяемые с молебном.
Будучи проявлением церковного единства и целостности, Евхаристия была последней богословской нормой в вопросах церковной структуры: любая Поместная Церковь, где совершалась Евхаристия, считалась не просто "частью" универсальной организации, но уельш Телом Христовым, проявляющимся в церковных таинствах и включающим в себя все "сообщество святых", живых или же усопших. Такое проявление виделось необходимой основой для географической экспансии христианства, но не отождествлялось с его территориальным распространением. Богословски церковное таинство есть знак и реальность эсхатологического предвкушения Царства Божиего, а епископат — необходимый центр этой реальности — виделся прежде всего в его сакраментальной функции, с прочими аспектами его служения (пастырство, наставничество), опирающимися на эту основополагающую "высокосвященническую" ("архиерейскую", на греческий манер) функцию в местной общине, скорее чем на идею кооптации в универсальную апостольскую коллегию. Епископ был, первым делом, образом Христовым в таинстве Евхаристии.
"Господи Боже наш, — говорится в молитве рукоположения в епископы, — Ты, Который провидением Своим учредил для нас учителей, природой нам подобных, дабы укрепить Алтарь Твой, чтобы они могли предлагать жертву Тебе и причастие всем людям Твоим; сотвори же, Тот Самый и Единственный, Господи, и этого человека таким, чтобы и он был провозглашен распорядителем епископской благодати, чтобы быть подражателем Тебе, истинному Пастырю..." (36).
Итак, по Псевдо-Дионисию, "верховный священник" (архиерей) обладает "первым" и "последним" рангами в иерархии и "исполняет всякое иерархическое посвящение" (37). Симеон Фессалоникский также определяет епископское достоинство в категориях его сакраментальной функции; епископ для него — это тот, кто выполняет все церковные таинства — Крещение, Миропомазание, Евхаристию, рукоположение; он — тот, "чрез которого все церковные деяния совершаются" (38). Евхаристия есть высшее Божие проявление во Христе; и поэтому не бывает более высокого и решающего служения. Центральное место Евхаристии — сознание того, что полнота Христова Тела в ней пребывает и что назначение епископа есть высочайшее в Церкви, станет первейшим основанием византийского противления любой богословской интерпретации сверхъепископского первенства: не бывает, считали византийцы, никакой власти "по божественному праву"
выше Евхаристии и епископа, возглавляющего Евхаристическое собрание.
Практика Византийской Церкви не всегда соответствовала внутренней логике этой евхаристической экклезиологии. Историческое развитие епископских функций — епископы, с одной стороны, с IV в. полностью передали совершение на постоянной основе Евхаристии священникам, а, с другой стороны, епископский сан de facto стал частью более обширных административных структур (провинции, патриархаты) — привело к утрате ряда исключительных и прямых связей епископского сана с сакраментальной стороной жизни Церкви. Но существенно важные богословские и экклезиологические нормы вновь подтверждались всякий раз, когда их напрямую оспаривали, и поэтому они сохранились в качестве существенной составляющей того, что для византийцев было преданием Вселенской Церкви (39).
Примечания
1. Horn, in II Tim. 2, 4; PG 62:612.
2. Catechetical oration, 37, ed. Strawley, p. 152.
3. Letter 93, ed. Deferrari, II, 145.
4. См. Глава 1. Хороший исторический обзор византийских евхаристических теологии и обычаев (с библиографией, не включающей в себя новейшие позиции) см. в кн. H. J. Schulz, Die bysantinische Liturgie — von Werden ihrer Symbolgestalt (Freiburg: Lambertus-Verlag, 1964).
5. Eccl. Hier., III, 3,1-2; PG 3:428лс.
6. Там же, III, 13; 444с; см. наши комментарии на эти тексты в кн. Chnst, с- 79-60.
7. R. Roques, Lunwers dionysien. Structure hiйrarchique du monde selon le pseudo-Denys (Paris: Aubier, 1954), p. 267, 269.
8. См. в особенности Quaestiones et dubia 41; PG 90:820л. О литургическом богословии Максима см. R. Bornert, Les commentaires byzantins de la divine liturgie du Vile au XVe siиcle, Archives de l'Orient chrйtien, 9 (Paris: Institut franзais d'йtudes byzantines, 1966), p. 82-124.
9. Mansi, XIII, 26lD-264c.
10. Antirrh. I; PC 99:340AC.
11. Antirrh. II; PG 100:336в-337А.
12. Contra Eusebium, йd. J. B. Pitra.Spici/egium Solesmense, I (Paris, t832f) p. 440-442.
13. Никифор, там же, с. 446.
14. Там же, с. 468-469.
15. De sacramentali corpore Christi, edd. L. Petit and M. Jugie, I (Paris: Bonne Presse, 1928), p. 126, 134.
16. «The Problem of the Iconostasis», St. Vladimir's Seminary Quarterly 8 (1964), No. 4, 215.
17. Dialexis et antidialogus, ed. A. Michel, Humbert und Kerullanos II (Pader-born: Quellen und Forschungen, 1930), p. 322-323.
18. Эта сторона противостояния из-за квасных и неквасных хлебов блестяще показана в статье: J. H. Erickson, «Leavened and Unleavened: Some Theological Implications of the Schism of 1054,» St. Vladimir's Theological Quarterly 14 (1970), No. 3, p. 155-176.
19. De vita in Christo, IV, 9; PG 150:592о-593д.
20. Erickson, op. cit., p. 165.
21. De vita
in Christo, IV, 4, 585Я. See also Gregory Palamas, Confession of Faith;PG 151:765, trans. A. Papadakis, «Gregory Palamas at the Council of Blachernae, 1351,» Creek. Roman, and Byzantine Studies 10 (1969), 340.
22. Там же, 11; 596с.
23. Там же, 10; 593.
24. Commentary on the Divine Liturgy, 29, edd. R. Bornert, J. Gouillard, and P. Perichon, Sources Chrйtiennes, 4 bis (Paris: Cerf, 1967), p. 185-187; trans. Hussey and McNulty (London: SPCK, 1960), p. 74-75.
25. Там же, с. 190; пер. с. 75-76.
26. Цит. изд. 46, с. 262; пер. с. 104-105.
27. См. ссылки у Р.Борнера, цит. соч., с. 93-94.
28. De sacro templo, 131, 139, 152; PG 155:337θ, 348c, 357A.
29. Mystagogia, 1; PG 91:668в.
30. Р.Борнер, цит. соч., с. 92.
31. Eccl. Hier. Ill, 1; PG 3:424c.
32. Там же, столбец 444θ.
33. De vita in Christo. IV, 1; PG 150:581в.
34. Там же, IV, 4; 585в.
35. De sacro templo, 282; PG 155:512θ-513Α.
36. Jacobus Goar, Euchologion sive Rituale Graecorum (Venice, 1730; repr_ Graz: Akademische Druck-und Verlagsanstalt, 1960), p. 251; trans. 5ert>ice Яoofe of the Holy Orthodox Catholic Apostolic Church, ed. I. F. Hapgood (New York: Association Press, 1922), p. 330.
37. Hier. Eccl. V. 5; PG 3:505A, 6:505c, etc.
38. De sacris ordinationibus 157; PG I55:364Я.
39. De vita in Christo, IV, 8; PG 150:604