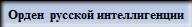Михаил Нестеров. ФИЛОСОФЫ (Священник Павел Флоренский и Сергей Булгаков)
Русское дворянство породило русскую интеллигенцию, а дворянская интеллигенция породила разночинную. Новая элита унаследовала и усилила все худшие стороны дворянской культуры. Разночинцы додумали до конца больную мысль дворянской интеллигенции.
С шестидесятых годов усиливается процесс социального разложения дворянства, которое не в силах пережить «эмансипацию» и теряет культурное лидерство. Дворян вытесняют разночинцы, которые принимают не лучшую часть их культурного наследства. «Кающийся дворянин чувствовал себя в неоплатном долгу перед народом, бичевал себя сознанием своей исторической виновности, хотя бы лично он и был совершенно “без вины виноватым”; удрученный этим сознанием, он готов был добровольно выкраивать ремни из собственной кожи, чтобы только уплатить по “историческому векселю”. Он… в порыве покаянного настроения готов был носить вериги политического бесправия, жертвовать всеми законнейшими своими правами, чтобы только искупить наследственный “грех отцов”. Кающийся дворянин был склонен к покаянному аскетизму. Наоборот, разночинец, человек, вышедший из народа, уязвлен в сознании своего личного достоинства и чести, он чувствовал себя несправедливо умаленным, искал кругом виноватых перед собою, а при болезненной напряженности этого своего умонастроения начинал без разбора, направо и налево, подозревать тех, в чью среду он выбился, в непризнании его равным себе, во взглядах сверху вниз, становился болезненно обидчив и подозрителен» (В. Чернов).
Разночинец, по определению словаря В.И. Даля, «человек неподатного сословия, но без личного дворянства и не приписанный ни к гильдии, ни к цеху». Секуляризация жизни и резкие социальные перемены способствовали исходу молодежи из традиционного уклада низовых сословий: детей купцов и духовных лиц, чиновников и низших офицеров, в меньшей степени – мещан и крестьян. «Сами они были воплощенным отрывом от почвы, отщепенцами той народной (духовной, купеческой, крестьянской) Руси, которая живёт ещё в допетровском сознании. Тяжело и круто порвав со “страной отцов”, они, в качестве плебеев, презирают и дворянскую культуру, оставшись вне всякой классовой и национальной почвы, уносимые течением европейского “прогресса”. Идее западников они сообщили грубость мужицкого слова, донельзя упростили все, и одним фактом этого упрощения снизили уровень русской культуры совершенно так, как снизила его революция 1917 года» (Г.П. Федотов).
Ежегодно из провинции бросались в столицы тысячи молодых людей, для которых жизнь начиналась, как с чистого листа. Нигилистически воспитанное новое поколение отказывалось признавать старые авторитеты и прельщалось новыми идеями. «Эта масса молодых людей, прибывая из провинции в столицы, со смутным чувством глубокой неудовлетворенности и обиженности на жизнь, но в общем настроенная идеалистически, со способностями к анализу и теоретическому мышлению довольно слабыми, но зато с огромной жаждой действовать и всё вокруг себя переделать, страстно набрасывалась… всё на те же французские газеты, французских историков и немецких философов, а в последние десятилетия века – на политэкономические доктрины не для того, чтобы в чем-то разобраться, а для того, чтобы найти сейчас же, немедленно, прямое руководство к действию» (К. Касьянова).
А.И. Герцен в «Былом и думах» так характеризовал интеллигента-разночинца середины XIX века: «Видно было, что он вышел на волю из всех опек и крепостей, но ещё не приписался ни к какому делу и обществу: цели не имел… От постоянной критики всего общепринятого Кельсиев раскачал в себе все нравственные понятия и не приобрел никакой нити поведения… Он далеко не оселся, не дошёл ни до какого центра тяжести, но он был в полной ликвидации всего нравственного имущества. От старого он отрешился, твердое распустил, берег оттолкнул и очертя голову пустился в широкое море».
Разночинная волна «снизу» не привносила ничего из народно-корневого. Разночинец преисполнен слепой ненависти и жажды разрушения. Заимствованные «в верхах» дворянской культуры предрассудки фантастично преломлялись в сознании новых поколений безукладья и безвременья. Многих из семинарской молодежи травмировали униженное положение духовного сословия, обскурантская атмосфера духовных школ, принуждение к религиозной вере. Они бежали от нестерпимой атмосферы, но входили в интеллигентское сословие с прививкой начётничества и дурного рационализма. «Семинаристы и разночинцы принесли с собой новую душевную структуру, более суровую, моралистическую, требовательную и исключительную, выработанную более тяжелой и мучительной школой жизни, чем та школа жизни, в которой выросли люди дворянской культуры» (Н.А. Бердяев).
Для русского человека потеря традиционного жизненного уклада, являющегося носителем смысла жизни, оказывается духовной катастрофой и вызывает бунт всеотрицания, ниспровержения ценностей – порождает нигилизм От лат. nihil – ничто, установка на абсолютное отрицание.: «Отсутствие мира гуманистических ценностей срединного морального царства делает богоотступника уже не человеком. Неудивительно, что нигилистическая проказа идёт, прежде всего, из семинарий… Это второе по времени освобождение “бесов”, скованных веригами Православия. Всякий раз взрыв связан с отрывом от православной почвы новых слоёв: дворянства с Петром, разночинцев с Чернышевским, крестьянства с Лениным» (Г.П. Федотов). Молодые люди выпадали из одного уклада и не были способны органично адаптироваться в другом. Оттого разночинец делает заявку на ревизию господствующих мнений и провозглашение новых идей. Но «новизна» заключалась в открытом утверждении нигилистических «ценностей», которые взращивались в культуре дворянской. Достоевский, чувствовавший нерв событий, запишет: «Теперешнее поколение – плоды нигилятины отцов. Страшные плоды. Но и их очередь придет. Подымется поколение детей, которое возненавидит своих отцов». Когда, по Достоевскому, происходит «встреча двух поколений всё одних и тех же нигилистов», – дети агрессивно отталкиваются и от культуры отцов. Беспочвенность толкает к утопическим и абстрактным, в то же время приземленным «идеалам». Увлечение романтизмом, шеллингианством и гегельянством вытесняется поклонением приземленным европейским богам: О. Конту, Д. Миллю, Я. Молешотту, Г. Спенсеру. С конца 1850-х годов признаком хорошего тона становятся нигилизм и позитивизм, эмпиризм и материализм.
Типичный разночинец – это полный слепой силы молодой человек, оторванный от органичного жизненного уклада – от почвы. Традиции русского воспитания, образования и быта отвергнуты. «Отрыв шестидесятников от почвы настолько резок, что перед их отрицанием отходит на задний план идейность и на сцену на короткий момент выступает чистый “нигилист”… Нигилизм 60-х годов жизненно в достаточной мере отвратителен. В беспорядочной жизни коммун, в цинизме личных отношений, в утверждении голого эгоизма и антисоциальности (ибо нигилизм антисоциален), как и в необычайно жалком, оголенном мышлении, чудится какая-то бесовская гримаса: предел падения русской души» (Г.П. Федотов). Гордыня всеотрицания не раскрепощает человеческое сознание, резко ограничивает его и делает крайне зависимым от расхожих предрассудков: «Нигилизм – это лакейство мысли. Нигилист – это лакей мысли» (Ф.М. Достоевский).
Тургеневский Базаров с помощью Писарева становится нарицательным образом, характеризующим эпоху. «Демоны шестидесятников не одни “мелкие бесы” разврата. Базаров не выдумка и Рахметов тоже. Презрение к людям – и готовность отдать за них жизнь; маска цинизма – и целомудренная холодность; холод в сердце, вызов Богу, гордость непомерная – сродни Ивану Карамазову; упоение своим разумом и волей – разумом без взлета, волей без любви; мрачность, замораживающая истоки жизни, – таково это новое воплощение Печорина, новая демонофания» (Г.П. Федотов). Интеллектуальные мании вели к радикальной идейной доктрине – социализму. Поколение исторического безвременья (выпавшее из судьбы народа) оказалось роковым образом предопределенным к порабощению идеей светлого будущего.
Разделяя с дворянством антипатии, новые люди обрушились на его симпатии. Это было единство в ненависти (два поколения всё тех же нигилистов) и отказ от предрассудков любви. Разночинцу в русской жизни ничто не дорого. Освобождение от традиций освобождало и от тех «предрассудков», которым оставалась верна интеллигенция дворянская: порядочности, чести, долгу, интеллектуальной взыскательности, высокой образованности и культуре. Достоевский характеризовал атмосферу духовного разночинства: «Нравственных идей ни одной не осталось, и, главное, с таким видом, будто их никогда не было… Помутились источники жизни». Разрыв с заветами прошлого создавал тип людей “довременно растленных”» (Н.С. Лесков). «Деморализованные сыны нашей страны» (Н.А. Некрасов) несли в себе заряд беспринципности, ненависти и разрушения.
Сознание разночинца резко сужается, становится поверхностным. Разночинец – это самоуверенный и принципиальный недоучка (недоучившийся семинарист или студент), ибо учиться некогда (зовет практическое дело) и не у кого (нет авторитетов). Разночинец мог быть узким специалистом, невежественным во всём остальном. Если он был начитанным (как Чернышевский), то знания его были неглубоки и нежизненны. Разночинная культура не одухотворяла и не возвышала человека. «Блистательная» разночинная публицистика поражает своей убогостью и злобностью. Разночинское нашествие варваров очередной раз усугубило болезненное состояние русских культурных слоёв: «За последние полтораста лет сгнили все корни, когда-то связывавшие русское барство с русской почвой» (Ф.М. Достоевский).
Исход еврейской молодежи
Если в разночинстве завершилась десоциализация русской интеллигенции, то со следующим «исходом» довершилась её денационализация, в результате чего интеллигенция становилась более люмпенизированной. Общеевропейское разложение религиозного сознания захватило и еврейскую диаспору в России.
А.И. Солженицын в книге «Двести лет вместе» описывает общественные процессы, которые во второй половине XIX века выталкивали молодые поколения из еврейской диаспоры. Российская власть сознавала необходимость изменения жизненного уклада еврейской диаспоры: «Если при Николае I правительство ставило задачу – сперва реформировать еврейский внутренний быт, постепенно разряжая его через производительный труд и образование и так ведя к снятию административных ограничений, то при Александре II, напротив, правительство начало с быстрого снятия внешних стеснений и ограничений, не доискиваясь до возможных внутренних причин еврейской замкнутости и болезненности, надеясь, что тогда сами собой решатся и все остальные проблемы; начало “с намерением слияния сего народа с коренными жителями страны”, как сказано было в высочайшем повелении 1856 г.» (А.И. Солженицын).
В 1856 году был создан седьмой по счету на эту тему Комитет по устройству быта евреев. «В Комитете получили развитие доводы против равноправия: что рассматриваемый вопрос – не столько еврейский, сколько русский; что опрометчиво было бы открывать полное равноправие евреям прежде, чем будет поднят образовательный и культурный уровень населения русского, чья темная масса не сможет отстоять себя перед экономическим напором еврейской сплоченности; что евреи стремятся совсем не к слиянию с гражданами страны, а к получению всех гражданских прав при сохранении своей обособленности и спаянности, какой нет между русскими. Однако эти голоса не получили влияния. Ограничения с евреев снимались одно за другим» (А.И. Солженицын). После многих послаблений сохранявшаяся черта оседлости стала переживаться еврейской общиной более болезненно.
Об условиях жизни российских евреев говорит прирост еврейского населения. В 1864 году, не считая Польши, в России жило 1,5 миллиона евреев. С Польшей же в 1850 году – 2,3 миллиона, в 1880 году около 4 миллионов. К концу XIX века еврейское население в России за столетие выросло больше чем в пять раз и составляло около 51% от мирового еврейства. Динамичный прирост, помимо всего, создавал многие проблемы для власти. «При таком экстраросте российского еврейства – всё настоятельнее сталкивались две национальные нужды. Нужда евреев (и свойство их динамичной трёхтысячелетней жизни): как можно шире расселиться среди иноплеменников, чтобы как можно большему числу евреев было бы доступно заниматься торговлей, посредничеством и производством (затем – и иметь простор в культуре окружающего населения). А нужда русских, в оценке правительства, была: удержать нерв своей хозяйственной (затем – и культурной) жизни, развивать её самим» (А.И. Солженицын).
Отмена крепостного права и начало Александровских реформ неожиданно ухудшили материальное положение большинства еврейского населения. «Социальная перемена была в том, что переставал существовать многомиллионный, бесправный и лишённый подвижности класс крестьянства, отчего падало в сравнительном уровне значение личной свободы евреев. А экономическая – в том, что “освобожденный от зависимости крестьянин… стал меньше нуждаться в услугах еврея”, то есть освободился от строгого запрета вести и весь сбыт своих продуктов, и покупку товаров – иначе, чем через назначенного посредника (в западных губерниях почти всегда еврей). И в том, что помещики, лишившись дарового крепостного труда, теперь, чтобы не разориться, “были вынуждены лично заняться своим хозяйством, в котором ранее видная роль принадлежала евреям как арендаторам и посредникам в многообразных торгово-промышленных делах” (Ю. Гессен). Отметим, что вводившийся в те годы поземельный кредит вытеснял еврея “как организатора финансовой основы помещичьего быта” (Ю. Гессен). Развитие потребительных и кредитных ассоциаций вело к “освобождению народа от тирании ростовщичества” (Оршанский)» (А.И. Солженицын).
Либеральные реформы раскрепощали жизненный уклад всех слоёв населения, в том числе и евреев, но расширение возможностей самодеятельности для большинства русского населения создавало новые трудности для жизни евреев в России: «Интеллигентный современник передает нам в связи с этим тогдашние еврейские настроения. Хотя евреям открыт доступ к государственной службе и к свободным профессиям, хотя “расширены… промышленные права” евреев, и “больше средств к образованию” и “чувствуется… в каждом… уголку” “сближение… между еврейским и христианским населением”; хотя остающиеся “ограничения… далеко не соблюдаются на практике с таким рвением” и “исполнители закона относятся теперь с гораздо большим уважением к еврейскому населению” – однако положение евреев в России “в настоящее время… в высшей степени печальное”, евреи “не без основания сожалеют” о “добром старом времени», везде в черте оседлости слышатся» сожаления [евреев] о прошедшем”. Ибо при крепостном праве имело место “необыкновенное развитие посредничества”, ленивый помещик без “еврея торгаша и фактора” не мог сделать шага, и забитый крестьянин тоже не мог обойтись без него: только через него продавал урожай, у него брал и взаймы. “Промышленный класс” еврейский “извлекал прежде огромные выгоды из беспомощности, расточительности и непрактичности землевладельцев”, а теперь помещик схватился всё делать сам. Также и крестьянин стал “менее уступчив и боязлив”, часто и сам достигает оптовых торговцев, меньше пьет, и это, “естественно, отзывается вредно на торговле питьями, которой питается огромное число евреев” (Оршанский)» (А.И. Солженицын). Еврейское предпринимательство оправилось после отмены крепостного права и винных откупов, развило аренду и покупку земель, выкуп и организацию промышленных предприятий. В 1872 году четверть сахарных заводов юго-запада, мукомольных, лесных и других фабричных производств принадлежала евреям; в 1878 году евреи вели 60% хлебного экспорта.
Бурные социально-экономические изменения сказались на культурной ситуации еврейских общин. С шестидесятых годов еврейская интеллигенция ориентируется с немецкой на русскую культуру. Нарождающаяся еврейско-русская интеллигенция встретилась с культурой русской интеллигенции, которая была пропитана европейским рационализмом, позитивизмом, атеизмом. Еврейское просвещение 1860–1870-х годов было ориентировано на ассимиляцию с русской культурой. Но «в условиях России ассимилироваться предстояло не с русским народом, которого ещё слабо коснулась культура, и не с российским же правящим классом (по оппозиции, по неприятию) – а только с малочисленной же русской интеллигенцией, зато – вполне уже и секулярной, отринувшей и своего Бога. Так же рвали теперь с еврейской религиозностью и еврейские просветители» (А.И. Солженицын). Еврейская интеллигенция отрывается от еврейской народной массы, которую ассимиляция не затрагивала. С 1860-х годов еврейская молодежь училась у русской интеллигенции «гойскому просвещению» – нигилизму, в 1870-х отдалась идеалам народничества. Потеряв консервативные корни, еврейская молодежь не обретала новой почвы и была склонна к радикальным идеям. «Многие поспешливые молодые люди оторвались от своей почвы, но и не вросли в русскую, они остались вне наций и культур – тот самый материал, который так и нужен для интернационализма» (А.И. Солженицын).
В конце 1870-х – начале 1880-х годов возникает водораздел между космополитическим и национальным направлениями в российском еврействе. Этому способствовали европейская атмосфера, в которой накалялась национальная идея, а также ухудшение отношения к евреям в русском обществе. Роковую роль и в этом сыграло цареубийство. «Убийство царя-Освободителя – произвело полное сотрясение народного сознания, – на что и рассчитывали народовольцы, но что, с течением десятилетий, упускалось историками… Убийство 1 марта 1881 года вызвало всенародное смятение умов. Для простонародных, и особенно крестьянских, масс – как бы зашатались основы жизни. Опять же, как рассчитывали народовольцы, это не могло не отозваться каким-то взрывом. И – отозвалось. Но непредсказуемо: еврейскими погромами, в Новороссии и на Украине» (А.И. Солженицын). Масштабы и жестокость погромов крайне преувеличивались. Погромы нередко провоцировались террористическими организациями: Александр III был уверен, что «в преступных беспорядках на юге России евреи служат только предлогом, это дело рук анархистов»; брат царя – великий князь Владимир Александрович – заявлял, что «беспорядки, как теперь обнаружено правительством, имеют своим источником не возбуждение исключительно против евреев, а стремление к произведению смут вообще»; генерал-губернатор Юго-Западного края докладывал, что «общее возбужденное состояние населения обязано пропагандистам». «И неудавшиеся погромы в Одессе и Екатеринославле, скорее всего, раздувались уже народниками. А движение погромщиков именно вдоль железных дорог и участие в погромах именно железнодорожных рабочих – позволяет предположить подстрекательство легкоподвижных агитаторов, особенно с этим возбуждающим слухом, что “скрывают приказ царя”: за убийство его отца бить именно евреев» (А.И. Солженицын). В Одессе погромы были организованы по преимуществу греками-купцами, у которых одесские евреи отбили торговлю, и никогда погромы (вопреки многочисленным обвинениям) не провоцировались властями. Погромы были осуждены даже «реакционными» «Московскими ведомостями», редактор которых М.Н. Катков, «всегда защищавший евреев, клеймил погромы как исходящие от “злокозненных интриганов”, “которые умышленно затемняют народное сознание, заставляя решать еврейский вопрос не путём всестороннего изучения, а с помощью “поднятых кулаков”» (А.И. Солженицын). Тем не менее «с рубежа 1881 года начался решительный отворот передового образованного еврейства от надежд на полное слияние со страной “Россия” и населением России… Хотя уже тогда выяснилась и не оспаривалась несомненная стихийность погромной волны и никак не была доказана причастность к ней властей, а напротив – революционных народников, однако не простили этих погромов именно русскому правительству – и уже никогда впредь. И хотя погромы происходили в основном от населения украинского – их не простили и навсегда связали с именем русским» (А.И. Солженицын).
С началом реформ Александра II, ослаблявших ограничения для еврейской диаспоры, еврейские имена встречаются среди революционеров, с начала 1880-х годов резко возрос приток радикальной еврейской молодежи в русское революционное движение. «И тут возникла ещё та тревожная для правительства связь, что вместе с умножением евреев среди студенчества – заметно умножалось и их участие в революционном движении… Радикальная революционность стала растущей стезей активности среди еврейской молодежи. Еврейское революционное движение стало качественно важной составляющей революционности общерусской. Количественное соотношение русских и еврейских революционеров в разные годы – впечатляет… Российские революционеры с годами всё больше нуждались в еврейском соучастии, всё больше понимали выгоду использовать евреев как зажигательную смесь в революции, использовать их двойной порыв: против стеснений национальных и стеснений экономических» (А.И. Солженицын).
Социальные, экономические причины еврейской революционности в России перевешиваются мотивацией идейной, глубинной духовной чуждостью еврейства русской православной цивилизации – русской религиозности, образу жизни, власти. У большинства еврейского общества «настроение было с конца XIX в. – постоянное раздражение против российского образа правления, – и в этом идеологическом поле воспитывалась молодежь ещё и до своего отпочкования от еврейства» (А.И. Солженицын). С каждым десятилетием евреев в революционном движении становилось больше. Коммунист Лурье-Ларин свидетельствовал, что «в царских тюрьмах и ссылке евреи обычно составляли около четверти всех арестованных и сосланных». Марксистский историк М.Н. Покровский утверждал, что «евреи составляли от 1/4 до 1/3 организаторского слоя всех революционных партий». С.Ю. Витте указывал, что евреи, составляя 5% населения России, поставляют 50% революционеров.
Начиная с 80-х годов XIX века исход еврейской молодежи из местечковых общин направлен по преимуществу в революционное движение. «Освобожденное духовно с 80-х годов из черты оседлости силой европейского “просвещения”, оказавшись на грани иудаистической и христианской культуры, еврейство, подобно русской интеллигенции Петровской эпохи, максимально беспочвенно, интернационально по сознанию и необычайно активно, под давлением тысячелетнего пресса. Для него русская революция есть дело всеобщего освобождения. Его ненависть к царской и православной России не смягчается никакими бытовыми традициями. Еврейство сразу же занимает в русской революции руководящее место. Идейно оно не вносит в неё ничего, хотя естественно тяготеет к интернационально-еврейскому марксизму… но на моральный облик русского революционера оно наложило резкий и тёмный отпечаток» (Г.П. Федотов).
Молодежь диаспоры отказывается от традиционной веры, уклада, но сохраняет агрессивное неприятие христианской цивилизации, в которой пришлось жить еврейству. Местечковая община в любой стране воспитывала отчуждение от гойской культуры, иначе еврейство не сохранилось бы в течение тысячелетий ни кровно, ни духовно. Установка на отторжение окружающего мира возбуждала агрессивные инстинкты, которые у мягкого и невоинственного народа проявлялись презрительным отчуждением и глухим сопротивлением, а не самоубийственной борьбой. Но нереализованная и ограничиваемая моральными нормами враждебность к христианству накапливалась и усиливала подсознательные очаги ненависти и агрессии. С разложением уклада еврейской общины сдерживающие моральные скрепы отпадают. Не связанная с традициями своей второй родины, еврейская молодежь видит в них не только бесполезный и вредный для человечества хлам, но и основную причину исторических злоключений еврейства.
Виктор Чернов в «Записках социалиста-революционера» (1922) приводит высказывания своего друга-еврея, они характеризуют типичное отношение еврейской интеллигенции к России: «Нет края, где бы не презирали или не ненавидели евреев, нет края, где бы не издевались над ними! Но там хоть впрок пошли человеческие жертвы, а у вас? Темнее и беспросветнее, чем когда-либо, – в России. Ваш народ – раб, он уже голодает и будет голодать, умирать будет, только простирая униженно руки за подаянием, и будет благословлять тех насыщенных, которые обронят мимоходом крохи со своего стола в эти исхудалые руки. Ваша интеллигенция вспыхивает, как пучок сухой соломы, может быть и ярким светом, но через мгновение на этом месте нет уже ничего, кроме горсточки охладевшей золы! Наш народ вы гнали, но века гонений только сделали нас тверже, как вековая тяжесть земных пластов творит каменный уголь, – он горит не как солома, а ровным и сильным светом, он и светит и греет, – почему же вы горите, как солома, а не как раскаленный каменный уголь? Ваша проклятая славянская равнина создала вас шатунами и ленивцами в одно и то же время, безалаберными, легко отходчивыми в гневе, непрочными в любви, вялыми в труде; вы добродушны, потому что вам лень быть злыми, вы широки, потому что сосредоточиться для вас – смерть, и вы ещё горды собой, вы всех считаете слишком узкими и не доросшими до себя, вы, для которых недоросль – национальный тип! Ваша интеллигенция – недоросль, ваша культура – недоросль, ваша промышленность – недоросль, ваш государственный строй – недоросль, ваш народ – недоросль! Лучшие ваши люди умеют только говорить жалкие слова, как Чацкий, восхищающий вас Чацкий, который в жизни пасует и перед Молчалиным, и перед Фамусовым, и перед Скалозубом; и все вы, его потомки, ухитряетесь только оказываться в вашей жизни “умными ненужностями” и “лишними людьми!”»
Уходя изучать гойскую науку, еврейская молодежь оказывалась в атмосфере революционной интеллигенции, идеалы которой соответствовали запросам недавно эмансипированных умов. «Эти элементы еврейского народа, утратившие культурное содержание старого еврейства, в то же время оставались чуждыми не только русской культуре, но и вообще какой бы то ни было культуре. Эта духовная пустота, скрывавшаяся под лишь поверхностно усвоенной европейской культурой, делала евреев, уже в силу своего преимущественного занятия торговлей и промышленностью склонных к материализму, крайне восприимчивыми к материалистическим политическим учениям… Столь свойственное евреям рационалистическое мышление… располагает их к усвоению доктрин вроде революционного марксизма» (И.О. Левин). Предельно беспочвенная и необычайно динамичная сила вливается в ряды русской интеллигенции и вскоре доминирует в ней. От столкновения трёх «исходов» – дворянского, разночинского и еврейского – радикализация русской интеллигенции предельно возрастает. Общеинтеллигентский индифферентизм вытесняется ненавистью ко всему почвенному: к национальной культуре, традиционной власти, Русской Церкви и Православию. В глазах новых людей русского еврейства национальная Россия – её исторический уклад, религия, культура, государственная власть – является главным врагом евреев, а поскольку интернациональное еврейское сознание отождествляет себя с общечеловеческим, то Россия – враг цивилизации и человечества – вызывает презрение, ненависть и стремление её разрушить. Еврейский прилив взнуздывает степень революционности интеллигенции. Не случайно начало еврейского притока в революционное движение совпадает с переходом от народнической тактики к политическим убийствам – террору против российской традиционной власти. Эти тенденции дали основание Ф.М. Достоевскому предвидеть: «Когда революция начнётся, отовсюду и всюду полезут евреи и временно воцарятся в России… а образованные из них, будучи крайне самолюбивы и обидчивы… представят собою самый озлобленный элемент среди бунтовщиков».
Еврейская религия воспитывала ненависть не только к гойской культуре, но и к Христу и христианству. Поэтому исход еврейской молодежи в революционное движение придал ему мощный антихристианский импульс. До того интеллигентский атеизм носил отвлечённо нигилистический характер, с приходом еврейства атеизм воспалился до ненависти к христианству и до богоборчества. Русская интеллигенция ориентировалась на марксизм – наиболее интернациональную и радикально богоборческую идеологическую доктрину – в значительной мере под влиянием выходцев из черты оседлости, о чем свидетельствуют еврейские авторы: «Русский марксизм в чистом его виде, списанный с немецкого, никогда не был русско-национальным движением, и революционно настроенной части русского еврейства, для которой воспринять социалистическое учение по немецким книжкам не составило никакого труда, естественно было принять значительное участие при пересадке этого иностранного фрукта на русскую почву» (В.С. Мандель). Еврейскому сознанию не чужды были идеи религиозного осмысления миссии Карла Маркса: «Моисей за 1250 лет до Христа первый в истории провозгласил проповедь коммунистических манифестов в капиталистическом государстве… а в 1848 году вторично взошла вифлеемская звезда – и опять она взошла над крышами Иудеи: Маркс» (Фриц Кан).
К концу XIX века увеличивается приток других национальностей в русскую интеллигенцию. В органичных условиях это обогащает культурный слой. В ситуации дерусификации образованных сословий усиление инородных влияний разжигало русофобию. В подсознании русских мальчиков (Ф.М. Достоевский) действовали некоторые охранительные табу, «мальчикам» нерусским в русской культуре и жизни ничто не было дорого.
Определения понятия
Слово «интеллигенция» ввёл в оборот писатель П.Д. Боборыкин в 1866 году, обозначая «высший образованный слой общества». Ныне слово «интеллигенция» употребляется в различных смыслах: как умные люди (этимологически – способные к пониманию), как люди с совестью, как просто хорошие люди; отсюда понятие «интеллигентный человек» может означать обладающий высокими интеллектуальными и нравственными качествами, хорошо воспитанный. Качества, которые воспитываются бескорыстным занятием умственным трудом, создают облик интеллигентного человека и наделяют признаком интеллигентности. Интеллигенция – это интеллектуально ведущий слой народа, что и выражено в определении В.И. Даля: «Интеллигенция – разумная, образованная, умственно развитая часть жителей». Интеллигенция является носителем интеллекта и выражает совесть нации. Носитель может быть органичным, здоровым, а может быть сформирован искусственно и поражен какими-либо болезнями. Эти представления отражают необходимые, но недостаточные свойства интеллигенции как сословия.
Понятие «интеллигенция» определяется: 1) через социальный статус, 2) через признак культурно-творческий, 3) через идеологическую принадлежность. Интеллигенция как социальная группа – это образованные слои общества, люди умственного туда. В широком смысле в интеллигенцию входят хозяйственные, технические, научные, культурные кадры, бюрократия, аристократия, духовные сословия. В образованных слоях общества по культурному творческому признаку выделяется сословие собственно интеллигентских, творческих либо свободных профессий: литераторы, художники, музыканты, артисты, адвокаты, учёные, врачи, инженеры... Образованное общество за вычетом аристократии, бюрократии, технократии, духовных сословий и есть интеллигенция как таковая.
Культурные сословия европейских стран подпадают под определения интеллигенции в первом и втором смысле (хотя термин «интеллигенция» существует только в русском языке). В Европе эти сословия тоже отчуждены от простонародья. Но только в России со времён Петра I между культурно ведущим слоем и народом разверзлась пропасть, которая разделила нацию на две различные до противоположности части: одна создавалась для переделки другой по чуждым образцам. В Европе между интеллектуальными слоями и народными массами существовало расслоение по социальному статусу и степени образованности, окультуренности. В России же образованные слои были оторваны от народа культурно-цивилизационно (были носителями инородной культуры), религиозно (относились враждебно к народной вере – Православию), национально (воспитывались на других языках, были носителями антинациональных установок). Негативные генетические качества интеллигенции резко усугубляются с формирования социального слоя на основе идеологии. Это специфически русское явление.
В 30-е годы XIX века выделяется наиболее радикальный слой интеллигенции, в выходцах из разных сословий можно было заметить общие черты психологии и взаимоотношения, сродни европейским орденам: «Интеллигенция представляет собою как бы воюющий орден, который не имел никакого письменного устава, но знал всех своих членов, рассеянных по лицу пространной земли нашей, и который всё-таки стоял по какому-то соглашению, никем, в сущности, не возбужденному, поперек всего течения современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими» (П.В. Анненков). Идеологическое сообщество было неформальным, его выделяло и объединяло стремление попрать традиционные жизненные устои и принципы. «Сознание интеллигенции ощущает себя почти как некий орден, хотя и не знающий внешних форм, но имеющий свой неписаный кодекс – чести, нравственности, – своё призвание, свои обеты» (Г.П. Федотов) «Интеллигенция скорее напоминала монашеский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и обычаями, и даже со своеобразным физическим обликом, по которому всегда можно было узнать интеллигента и отличить его от других социальных групп. Интеллигенция была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической группировкой, образовавшейся из разных социальных классов» (Н.А. Бердяев). О революционном ордене русской интеллигенции писал Ф.А. Степун.
Из образованных сословий в первой половине XIX века выделяются кадры, приверженные идеологическим догмам. Из них складывается неформальный «орден» единомышленников, мировоззрение которого подчинено идеологическому «символу веры»: атеизму, материализму, социализму. Идеологическое единство образует радикальную, или революционную, интеллигенцию, поскольку идеология призывает к радикальному, революционному переустройству мира. Идеологизированное сознание ущербно, ограниченно, подвержено маниям – болезненной сосредоточенности на частных идеях. Интеллигентский «идеал коренится в “идее”, в теоретическом мировоззрении, построенном рассудочно и властно прилагаемом к жизни, как её норма и канон. Эта “идея” не вырастает из самой жизни, из её иррациональных глубин, как высшее её рациональное выражение. Она как бы спускается с неба, рождаясь из головы Зевса, во всеоружии, с копьем, направленным против чудовищ, порождаемых матерью-землей. Афина против Геи – в этом мифе (отрывок гигантомахии) смысл русской трагедии, то есть трагедии русской интеллигенции» (Г.П. Федотов). В борьбе идеологий (набора ложных идей) с органичным, традиционным мировоззрением (с почвой) и состоит основной пафос времени, интеллигенция создается как передовой отряд эпохальной брани: «Русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» (Г.П. Федотов). Маниакальная идея интеллигентского сообщества – европеизация России, переделка огромного материка и тысячелетней цивилизации по диктующим фикциям «русского Запада» – и была идеей тотальной беспочвенности. Это выражало и одно из первых в России употреблений термина «интеллигенция» – статья И.С. Аксакова в газете «День» в 1861 году имела название «Отчужденность интеллигенции от народной стихии».
Консолидация на идеологической основе – это вырождение интеллектуального слоя. Радикальная интеллигенция теряет многие положительные черты культурного сословия и вырабатывает отрицательные. Этот динамичный слой становится негативным «ферментом» образованного общества, ускоряющим духовную деградацию. Орден русской интеллигенции – очаг духовной болезни, из которого духовная зараза распространяется по национальному организму. Орден «послушников» – бескорыстных служителей «идеи» – являлся центром атеистической «религиозности». Радикальное ядро задаёт тон, формирует мнение и вкус, устанавливает общеинтеллигентские идеалы и нормы. Культурное общество России с середины XIX века старательно равнялось на радикальный авангард. Герои-революционеры в глазах общественного мнения были апостолами новой интеллигентской веры. Орден русской интеллигенции начал складываться с приливом волны разночинцев. Затем отбор шёл по идеологическому признаку, в ряды революционной интеллигенции вливаются представители всех сословий.
Каждое поколение интеллигенции мыслило себя «по-новому»; отрекаясь от отцов, новые люди открывали собой новую эпоху, которая оказывалась очередной ступенью духовного падения. «Столетие самосознания русской интеллигенции является её непрерывным саморазрушением… За идеалистами – “реалисты”, за “реалистами” – “критически мыслящие личности” – “народники” тож, за народниками – марксисты – это лишь один основной ряд братоубийственных могил» (Г.П. Федотов). Так русское дворянство и интеллигенция фаланга за фалангой воспитывали в России кадры небытийной идеологии.
Логическим итогом деятельности образованных сословий на протяжении полутора столетий была катастрофа 1917 года. «Русская гуманитарная наука оказалась аптекой, где все наклейки были перепутаны. И наши учёные аптекари снабжали нас микстурами, в которых вместо аспирина оказался стрихнин… Русская “наука” брала очень неясные европейские этикетки, безграмотно переводила их на смесь французского с нижегородским – и получался круг понятий, не соответствовавший, следовательно, никакой действительности в мире, круг болотных огоньков, зовущих нас в трясину… Русскую кое-как читающую публику столетия подряд натаскивали на ненависть к явлениям, которых у нас вовсе не было, и к борьбе за идеалы, с которыми нам вовсе нечего было делать. Был издан ряд “путеводителей в невыразимо прекрасное будущее”, в которых всякий реальный ухаб был прикрыт идеалом и всякий призрачный идеал был объявлен путеводной звездой. Одними и теми же словами были названы совершенно различные явления. Было названо “прогрессом” то, что на практике было совершеннейшей реакцией, – например реформы Петра, – и было названо “реакцией” то, что гарантировало нам реальный прогресс – например, монархия. Была “научно” установлена полная несовместимость “монархии” с “самоуправлением”, “абсолютизма” с “политической активностью масс”, “самодержавия” со “свободой” религии, с демократией и проч. и проч. – до бесконечности полных собраний сочинений… В силу всего этого мы, нынешнее поколение России, не знаем, в сущности, решительно ничего нужного. Мы потеряли свои пути и не нашли никаких чужих. Мы потеряли даже и часть своего языка и объясняемся переводами с французского на нижегородский – переводами, которые в оригиналах обозначают неизвестно что. Мы заблудились в трёх пошехонских соснах и разбиваем свою голову о каждую из них» (И.Л. Солоневич).
В свете вышесказанного синтезируем характеристики интеллигенции, которые давались, начиная со сборника «Вехи». Интеллигентское мировоззрение коренится в ряде родовых душевных комплексов, которые порождены ложным экзистенциальным состоянием и которые наиболее выражены среди радикалов. Формация интеллигенции выделялась и объединялась общей духовной болезнью – комплексами искусственности происхождения и неорганичности существования, которые были унаследованы от дворянства и усиливались в каждом поколении. Отсюда не всегда осознаваемое чувство социального греха и комплекс вины и покаяния. Экзальтированное и ложно ориентированное чувство социальной ответственности в реальности оборачивалось исторической безответственностью. Комплекс «прогрессивности» внушал слепое стремление ко всему передовому и служение прогрессу. Русская интеллигенция разделяла европейские предрассудки безрелигиозного гуманизма: веру в естественное совершенство человека. Культурная «беспризорность» интеллигенции вела к агрессивному отторжению от всего русского, склонности к интернационализму, болезненному тяготению ко всему европейскому, западному. В комплексах подсознания и маниакальной ориентации сознания на фикцию «русского Запада» коренились воспаленные идеи интеллигенции, её пристрастия и антипатии.
Доминантой интеллигентской позиции была экзистенциальная беспочвенность: беспочвенность происхождения, положения и собственного выбора. Невозможно согласиться с Бердяевым, что в этом проявлялся национальный характер интеллигенции. Русский народ один из наиболее укорененных в традиции, укладе, предании. Беспочвенность – следствие разрыва интеллигенции с национальной традицией. Интеллигенция обрекала себя на «раскол, отщепенство, скитальчество, невозможность примирения с настоящим, устремленность к грядущему» (Н.А. Бердяев) не потому, что это было свойственно русскому народу, как утверждал Бердяев, а из-за отрыва от народа. Стремление интеллигенции к фикции справедливой жизни отторгало от общенациональной судьбы, от исторической ответственности. Утопия лучшей жизни вытесняла обязанности перед жизнью реальной, иллюзия грядущего избавляла от мучительного чувства «первородного греха». Выразители самосознания интеллигенции не были способны понять причины и следствия «грехопадения», исторической вины сословия, без чего невозможны подлинное искупление и свободный выбор судьбы.
Следствием экзистенциальной беспочвенности был нигилизм интеллигенции – «жизнь в расколе с окружающей действительностью» (С.Л. Франк). Раскольничья мораль диктует идейную нетерпимость и фанатизм. Нигилистический морализм делал русского интеллигента «воинствующим монахом нигилистической религии земного благополучия» (С.Л. Франк). Идеалы земного благополучия не могут быть религиозными, то есть абсолютными и вселенскими, поэтому интеллигентский псевдорелигиозный пафос обращен на реализацию социальной утопии.
Духовное отщепенство от народа, борьба с властью и обществом формировали подпольную психологию. Беспочвенность существования воспитывала неуравновешенный и раздвоенный психологический тип. Неорганичные идеалы ограничивают сознание, которое склонно к мономании – вере в болезненно навязчивые идеи. При нравственной неустойчивости человек скатывается к экстремизму, без духовного стержня – склонен к идейной одержимости и фанатизму. «Символ веры» интеллигенции включает крайние идеологические доктрины, которые фокусируются в марксизме.
Мировоззрение интеллигенции представляет собой идеологический отлёт от действительности, утопическую мечтательность, социальный самогипноз, преобладание догматизма и демагогии. «Интеллигенцию не интересует вопрос, истинна или ложна, например, теория знания Маха, её интересует лишь то, благоприятна или нет эта теория идее социализма, послужит ли она благу и интересам пролетариата; её интересует не то, возможна ли метафизика и существуют ли метафизические истины, а то лишь, не повредит ли метафизика интересам народа, не отвлечет ли она от борьбы с самодержавием и от служения пролетариату. Интеллигенция готова принять на веру всякую философию под тем условием, чтобы она санкционировала её социальные идеалы, и без критики отвергнет всякую, самую глубокую и истинную философию, если она будет заподозрена в неблагоприятном или просто критическом отношении к этим традиционным настроениям и идеалам… Любовь к уравнительной справедливости, общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине» (Н.А. Бердяев). Традиционные настроения и идеалы интеллигенции исключали здравое восприятие реальности и адекватную ориентацию в жизни. В ложном мировоззрении отсутствуют критерии истины и не может быть подлинных представлений о справедливости, общественном добре и народном благе, которые являются рационализированными идеологизмами.
Однобокий рационализм сочетается у интеллигенции с эмоциональными, аффективными реакциями. Без органичного жизнеощущения мышление несамостоятельно и ограниченно, а воля – непрактична и неумела. Революционная интеллигенция не способна целенаправленно трудиться, хотя всегда декларировала необходимость созидательной деятельности. Духовно-нравственная инфантильность сказывается в категоричности и ригоризме, социальном потребительстве, исторической безответственности, проявляется в культе молодости, студенчества, где неведомы обязанности, но требуются неотъемлемые права. Понижение духовного уровня диктует ненависть к культуре, антиметафизичность.
Идеологическая групповщина воспитывает стадную волю, тоталитарное сознание, уравнительную утилитарную мораль. Дурной коллективизм не позволяет раскрыться здоровой индивидуальности. При демагогическом провозглашении индивидуальных свобод господствует антиперсонализм – подчинение личного общеидеологическому, отрицание свободы и суверенности личности. Культивируется фанатическая преданность набору догм, экзальтированное чувство посвящённости в общее дело. Ощущение мистического единства и гордыня идеологически посвященных воспитывают высокомерное и надменное отношение к непосвященному мещанству и обывателям. Это выражается в типично интеллигентской позе, претензии, ханжестве, максимализме, чувстве непогрешимости, пренебрежении к инакомыслящим. Несогласные обвиняются в отрицании ценностей и попрании морали. По отношению к политическим оппонентам снимаются моральные ограничения: не наш – значит, аморален, считается вне закона и заслуживает нечеловеческого отношения. Орден интеллигенции превратился в замкнутую и агрессивную общность, стремящуюся подчинить всё вокруг собственной догме и сеющую гражданскую распрю.
Из литературы, воспоминаний и доживших до нас «реликтов» известен иной облик интеллигента – это гуманное, мягкое, доброе существо, ищущее смысл жизни и умеющее созидательно трудиться в своей области. Интеллигенту было свойственно служение благородному и непременно великому делу, что воспитывало характер возвышенный, гордый и независимый. Среди провинциального дворянства и интеллигенции было немало замечательных, чистых и бескорыстных людей. Чем ближе были образованные сословия к народу социально (как провинциальное мелкопоместное дворянство и земская интеллигенция) и психологически (внутренней ориентацией), тем больше сохраняли они дух органичной культуры и черты национального характера. «В николаевские годы в поместном и служилом дворянстве, как раз накануне его социального крушения, складывается, до известной степени, национальный быт. Уродливый галлицизм преодолевается со времени Отечественной войны, и дворянство ближе подходит к быту, языку, традициям крестьянства. Отсюда возможность подлинно национальной дворянской литературы, отсюда почвенность Аксакова, Лескова, Мельникова, Толстого… О, конечно, это почвенность относительная. Исключая Лескова, сознательная национальная традиция не восходит к допетровской Руси; но допетровский быт, в котором ещё живёт народ, делается предметом пристального и любовного изучения. Иногда кажется, что барин и мужик снова начинают понимать друг друга. Но это самообман. Если барин может понять своего раба (Тургенев, Толстой), то раб ничего не понимает в быту и в миру господ. Да и барское понимание ограниченно: видят быт, видят психологию, но того, что за бытом и психологией, – тысячелетнюю традицию, религиозный мир крестьянства – “христианства” – ещё не чувствуют» (Г.П. Федотов).
По ряду причин не тенденции национального возрождения и не привлекательный тип интеллигенции задавали тон. немногочисленный интеллигентский авангард – «орден» – захватил влияние в обществе, ибо он динамичнее и наглее. Общеинтеллигентское мировоззрение отличалось рыхлостью и неустойчивостью вследствие той же беспочвенности. Господствовал идеализм – увлеченность абстрактно возвышенными идеалами, но секуляризованное сознание было не способно приобщиться к духовному богатству Православия. Идеалистичность диктовала известное пренебрежение к материальному богатству, своеобразный аскетизм, моральный пафос, стремление к высшим идеалам и поиск смысла жизни, что не исключало приземленности большинства идеалов. Неопределенные общеинтеллигентские установки фокусировались в радикальном ядре интеллигенции, где из них делались последовательные выводы, которые затем распространялись в обществе в качестве авторитетных директив. «Мозговой центр» додумывал и оправдывал выводы беспочвенной общеинтеллигентской позиции.
Привлекательные черты в интеллигенции улетучивались по мере того, как суровая действительность заставляла определять мировоззренческую позицию. Идеалы абстрактного гуманизма легко сочетались с поддержкой жёстоких, антигуманных акций, если были направлены против чуждых сословий. Проявление положительных качеств зависело от диктата нигилистической установки и могло оборачиваться во зло. «Орден» определил существенные общеинтеллигентские склонности, отбросил гуманистические пережитки, обнажил основы миростояния русской интеллигенции как таковой.
Лишившись русского мировосприятия, поправ русскую веру и нравственные устои, интеллигенция не смогла избавиться от своей русскости и сохраняла черты национального характера, хотя и в искажённом виде. Это было причиной её трагической раздвоенности, но сохраняло возможность возвращения блудного сына в отчий дом. «Беда русской интеллигенции не в том, что она недостаточно, а скорее в том, что она слишком русская, только русская» (Д.С. Мережковский). В других странах культурная элита, оторванная от народных сословий, не испытывала по этому поводу никаких мук и угрызений совести, но и не мстила за это всем вокруг. Только русский человек мог тотально деградировать в отрыве от живительных токов национального духа. Многие пороки, которые генетически свойственны неорганичному культурному сословию, усиливались проявлениями отрицательных качеств национального характера. Русская религиозная ментальность сказывалась в религиозной экзальтации богоотступников: «Иногда кажется, что самый атеизм русской интеллигенции – какой-то особенный, мистический атеизм» (Д.С. Мережковский). Помноженное на русский максимализм богоборчество приобретало вовсе инфернальный характер (Ленин).
Тотальная утопичность
Думающее русское сословие в ХIX веке оторвано от российской реальности, поэтому его самосознание и осознание русской жизни вполне утопичны. К.Д. Кавелин в «Мыслях и заметках о Русской истории» в 1866 году описывал интеллигентское умонастроение, оторванное от общенационального жизнеощущения: «Кроме нас, нет народа в мире, который бы так странно понимал своё прошедшее и настоящее. Ни один народ не разрывается в своём сознании на две половины, совсем друг другу чуждые и ничем не связанные… Одни мы, русские, лишены до сих пор единого народного сознания… Раздвоенные в народном сознании, мы не можем высвободиться из вопиющего противоречия между нашим взглядом на самих себя и постепенным, величавым ходом нашей истории… Где источник этой умственной немощи? Он глубоко скрыт в вековой привычке смотреть на себя чужими глазами, сквозь чужие очки. Толстый слой предрассудков, в которых мы не отдаем себе отчета, присутствия которых даже не подозреваем, мешают нам понимать себя правильным образом… Наши взгляды, убеждения выведены нами не из нас самих и не из нашей истории, а приняты целиком от других народов. Оттого мы и не умеем связать прошедшее с настоящим, и все, что ни говорим, что ни думаем, так бесплодно, в таком вопиющем разладе с совершающимися фактами и с ходом нашей истории. Наша умственная апатия и бессилие так же стары, как мы сами… Образованный слой русского общества, за очень редкими исключениями, продолжает по-старому питаться чужими мыслями, действовать по чужим образцам. Мы до сих пор едва догадываемся, что наши взгляды – выводы из чужой жизни, и добродушно принимаем их за результат самостоятельного нашего развития. Вот где источник наших внутренних противоречий и разладицы. Не понимая себя и среды, к которой принадлежим, мы блуждаем в потёмках, ходим ощупью, куда и как случится. Наша умственная и нравственная жизнь, не имея ещё пока корней у себя дома, не имеет по тому же самому и никакого центра тяжести и носится в воздухе; при всем блеске наших природных способностей она холодна, бесплодна и мертва. Она согреется, оживет и сделается плодотворной только с той минуты, когда опустится из неопределенной шири на русскую почву, прильнет к ней и будет из неё питаться. Уравновесить умственные и нравственные силы с действительностью, соединить в одно органическое целое мысль и жизнь может отныне только глубокое изучение самих себя в настоящем и прошедшем. Других путей нет и не может быть».
Как итожил интеллигентский историк русской интеллигенции в начале ХХ века, «интеллигенция есть этически – антимещанская, социологически – внесословная, внеклассовая, преемственная группа, характеризуемая творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому, общественному и индивидуальному освобождению личности» (Р.И. Иванов-Разумник). Писатель-народник говорил пафоснее: «Интеллигенция среди всяких положений, званий и состояний исполняет всегда одну и ту же задачу. Она всегда – свет, и только то, что светит, или тот, кто светит, и будет исполнять интеллигентное дело, интеллигентную задачу» (Г.И. Успенский). Самомнение интеллигенции не соответствовало её реальному положению. Интеллигентское сословие противопоставляет себя органичным сословиям, российскому жизненному укладу. Болезненный протест против действительности выбрасывал интеллигенцию из исторической реальности. C точки зрения идеологической «надклассовости», все прочие сословия обращаются в непросветленную массу – тёмное мещанство. Мещанское – это все, что не соответствует интеллигенции и не приемлет её света – высоких идеалов, то есть всё реальное. К мещанству относили не только мещанское сословие – мелких городских торговцев, ремесленников, низших служащих, но и крестьянство, духовенство, чиновничество, аристократию, то есть абсолютное большинство населения. Поскольку утопичным интеллигентским идеалам в российской действительности мало что могло соответствовать, то реальная жизнь приписывается к разряду мещанства, обывательщины, тёмного царства. Чувство социального самосохранения именуется эгоизмом; невосприимчивость к радикальным идеям – реакционной аполитичностью, безыдейностью; трудовая активность и ответственность – материальным потребительством; здоровый консерватизм, антиреволюционность – гнусной тягой к спокойствию, бездействию. Всё национально-самобытное – православная религиозность, уклад народной жизни, типы русского характера, – всё это в глазах интеллигентского общества «безличная сплоченная посредственность» (Р.И. Иванов-Разумник), отсталая азиатчина или мещанство, ибо всё это противостоит самоутверждению интеллигенции.
Разрыв с органичным историческим укладом означал исход из истории, отказ от возможности исторического совершенствования. Эта установка на анти- и вне-, освобождая от обязанностей реальной жизни, порабощает фикциями: абстрактными догмами, больными иллюзиями, судорожными фантазиями. Вне национальной культурной почвы слепая борьба за «широту, глубину и яркость человеческого Я» (Р.И. Иванов-Разумник) отдаёт человека во власть эгоистических стихий. Своевольное самоосвобождение человека неизбежно заканчивается рабством внутренним – произволом ущербной самости. Интеллигенция была нигилистической по рождению и в силу собственного выбора. Нигилисты только осознали и декларировали этот роковой факт её биографии.
Если интеллигенция целиком за новое, устремлена в грядущее и презирает пошлую российскую действительность, то так называемое мещанство пытается сохранить традиции, несёт бремя исторического строительства. Российская жизнь, как и всякая, была преисполнена несовершенства. Интеллигенция боролась не с пороками, а со здравыми идеалами и общественными силами, которые могли преобразить жизнь. Как и везде, было в России и мещанство – ретроградный психологический тип. Интеллигенция обличает не историческую затхлость быта, а глубинную народную природу, которая претила тонким чувствам и изощренному уму просвещённого сословия. Утопические интеллигентские лозунги не обличали пороки действительности, а разрушали органичную жизнь. Луч света в тёмном царстве – светлое будущее – вехи разрушительного обольщения.
Орденскую атмосферу интеллигентских кружков в провинциальных городах России конца XIX века описывал И.А. Бунин: «Известно, что это была за среда, как слагалась, жила и веровала она. Замечательней всего было то, что члены её, пройдя ещё на школьной скамье всё то особое, что полагалось им для начала, то есть какой-нибудь кружок, затем участие во всяких студенческих “движениях” и в той или иной “работе”, затем высылку, тюрьму или ссылку, и так или иначе продолжая эту “работу”, и потом жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы и за людей не считая всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов (чуждых политике), чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели всё своё, особое и непоколебимое: свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и своё собственное отношение к России: отрицание её прошлого и настоящего и мечту о её будущем, веру в это будущее, за которое и нужно было “бороться”. В этой среде были, конечно, люди весьма разные не только по степени революционности, “любви” к народу и ненависти к его “врагам”, но и по всему внешнему и внутреннему облику. Однако, в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное: люди – это только мы да всякие “униженные и оскорбленные”; всё злое – направо, всё доброе – налево; всё светлое – в народе, в его “устоях и чаяниях”; все беды – в образе правления и дурных правителях (которые почитались даже за какое-то особое племя); всё спасение – в перевороте, в конституции или республике».
Отчуждение образованных слоёв от народной жизни было не только социальным, но и духовным, нравственным, и эта пропасть со временем расширялась. Радикальная антинациональная установка интеллигенции описывалась В.В. Розановым: «Россия не содержит в себе никакого здорового и ценного зерна. России собственно нет, она кажется. Это ужасный кошмар, фантом, который давит душу всех просвещённых людей. От этого кошмара мы бежим за границу, иммигрируем, если и соглашаемся оставить себя в России, ради того единственно, что находимся в полной уверенности, что скоро этого фантома не будет, и его рассеем мы». Орденская психология выталкивала из рядов интеллигенции тех, кто по каким-либо причинам сохранял духовную связь с народом, с общенациональной культурой. «Люди, выходящие из народа и являющие глубины народного духа, становятся немедленно враждебны нам; враждебны потому, что в чем-то самом сокровенном непонятны. Ломоносов, как известно, был в своё время ненавидим и гоним учёной коллегией; народные сказители представляются нам забавной диковинкой; начала славянофильства, имеющие глубокую опору в народе, всегда были роковым образом помехой “интеллигентским” началам… На наших глазах интеллигенция, давшая Достоевскому умереть в нищете, относилась с явной и тайной ненавистью к Менделееву» (А.А. Блок).
Утопическое общеинтеллигентское сознание было бродилищем радикальных беспочвенных идей, а социально-политическое мировоззрение воспитывало антисоциальные установки, приучало общество к оправданию терроризма как наиболее действенного способа разрушить ненавистную реальность: «Русская интеллигенция в настоящее время только в террористической форме может защитить своё право на мысль. Террор создан XIX столетием, это единственная форма защиты, к которой может прибегнуть меньшинство, сильное лишь духовной силой и сознанием своей правоты» (А.И. Ульянов). Неорганичный интеллигентский тип органично породил то, что внешне выглядело его извращением. Эпицентр духовного небытия России – «орден» русской интеллигенции – был закономерным детищем русской интеллигенции, которая была наследницей вненациональной культуры дворянства.
Складывающаяся традиция разделения функций между интеллигентским центром («орденом») и периферией стала прообразом будущей дифференциации и консолидации идеологических сил: «орден» превращается в руководящую партию, которая использует ум и нравственные качества интеллигенции как сословия умственного труда в целях идеологической экспансии. Интеллигенция в целом продолжает жить по принципу не ведаем, что творим, что устраивает «орден» (партию) и «послушников». Первые захватывают власть, вторые, пользуясь жизненными благами, продолжают считать себя не причастным к репрессиям передовым слоем, невинной жертвой перегибов, борцами за свободу и демократию.
Русская интеллигенция до конца прошла путь, предопределенный историческим роком – греховным самоопределением её духовных предков. Интеллигенция не искупила, но усилила унаследованный грех. «Для будущности России важно, чтобы социалистической и радикальной интеллигенции не дано было возможности переложить на одних большевиков идейную ответственность за крах всей системы идей. Само собою разумеется, речь идёт не об уголовной ответственности. Но в области идей должно быть твердо установлено, что между большевизмом и всеми леворадикальными и социалистическими течениями русской мысли существует тесная, неразрывная связь. Одно влечёт за собой другое. Русские социалисты, очутясь у власти, или должны были оставаться простыми, ничего не делающими для осуществления своих идей болтунами, или проделать от “а” до “ижицы” все, что проделали большевики. Когда большевики на этом настаивают, они неопровержимы. Это оказалось истиной в 1917–1918 гг. Это истинно и для будущего» (А.С. Изгоев). К этому можно добавить, что ответственность распространяется и на либеральную интеллигенцию, которая сочувствовала радикальному крылу – «ордену» интеллигенции.
Лопнувшие иллюзии
Элемент самокритичности наличествовал в сознании интеллигенции. В каждом поколении в её рядах находились трезвые головы, которые разоблачали фикции «русского Запада». Как и положено всякой иллюзии, она разбивалась при столкновении с Западом реальным, чем объясняется ряд разочарований, постигших русских путешественников по Европе. Но интеллигенция как сословие проходила мимо этих прозрений, не хотела их воспринимать.
Многие русские интеллигенты при ближайшем знакомстве с Европой могли бы повторить слова Фонвизина: «Пребывание моё во Франции убавило сильно её цену в моём мнении; я нашёл доброе в гораздо меньшей мере, нежели воображал, а худое в такой большой степени, которой и вообразить не мог!» Мираж воображаемой Европы рассыпался при соотнесении с реальностью.
С русскими часто происходило то, что, по мнению П.В. Анненкова, произошло с Белинским и что «не раз повторялось со многими из наших самых рьяных западников, когда они делались туристами: они чувствовали себя как бы обманутыми Европой». Анненков вспоминал о 40-х годах XIX века: «Русская интеллигенция любила не современную, действительную Францию… а Францию идеальную, воображаемую, фантастическую… У нас искали потаенной Франции».
Характерно и признание Гоголя: «Мысль, которую я носил в уме, о чудной, фантастической Германии, исчезла, когда я увидел Германию в самом деле».
Горечью, обидой проникнуты письма Герцена из Европы. В России он грезил европейской «колыбелью свободы», в Европе же почувствовал себя на другом берегу. В книге «С того берега», которую Анненков характеризовал как «самое пессимистическое созерцание западного развития», Герцен, обращаясь к сыну, писал: «Мы устраняем старую ложь… Мы довольно долго изучали хилый организм Европы, во всех слоях и везде мы находили перст смерти. Едва веришь глазам: неужели это та самая Европа, которую мы тогда знали и любили… Вещи, которые я никогда не считал возможными в Европе даже в минуты ожесточенной досады и самого черного пессимизма, сделались обыкновенны, ежедневны». Герцен описывает иллюзии «русского Запада», которые «не исполнили своей великой задачи, они разрушили веру, но не осуществили свободу, они зажгли в сердцах желания, которых они не в силах исполнить… Прощай, отходящий мир, прощай, Европа». В лице Герцена определённая часть русского общества прощалась с невоплотившимися грезами «русской Европы».
Цепь разочарований можно резюмировать словами письма Достоевского из Европы: «Господи, какие у нас предрассудки насчёт Европы». Болезненное воображение, бесплодная фантазия, предрассудки, самообман – неизбежный вывод, к которому приводит в сознании интеллигенции столкновение «русского Запада» с Западом реальным. Русские образованные люди искали в Европе высоких идеалов, но при знакомстве с реальной Европой они обнаруживали господство серединной культуры, которая принципиально неприемлема для двуполярного русского духа.
«На краю нравственной гибели», к которой привел Герцена крах главной иллюзии жизни, он обращается к России: «Я чую сердцем и умом, что история толкается именно в наши ворота… Осталось только два интересных вопроса: вопрос социальный и вопрос русский… Народ русский для нас больше, чем родина». Так Герцен становится родоначальником русского народничества. Но это оказалось сменой предмета мифотворческого сознания. Не найдя в Европе исполнения беспочвенных фантазий, русская интеллигенция обратила свой воспаленный взор на Россию. И Россию она видела с точки зрения противопоставления прогресса и варварства, передового и отсталого, революционного и консервативного.
Синдром Синдром – сочетание признаков, симптомов, имеющих общий механизм возникновения и характеризующих определённое болезненное состояние организма. народничества, выражавший инстинктивное чувство покаяния перед народом и смутно ощущаемый религиозный долг, не приблизил русскую интеллигенцию к народу, ибо оказался переложением на русской почве понятий, приобретенных в интеллектуальных скитаниях по чудным фантазиям Европы. «Идейный багаж юных подвижников невыразимо скуден: отправляясь в пустыню, они берут с собой, вместо Евангелия, “Исторические письма” Лаврова; так и спят на них, положив под изголовье. За это евангелие и идут на смерть, как некогда шли люди за сугубое аллилуйя» (Г.П. Федотов). В России интеллигенция видела то, что позволяло увидеть настроение «русского Запада»: «социализм» христианской общины, прирождённые наклонности русского народа к социализму… В реальной России не было того крестьянства, которое народническая интеллигенция хотела воспитывать, просвещать, революционизировать. Русский народ не понимал того «просвещения», которое пыталась навязать ему интеллигенция хождением в народ, и не нуждался в нём. Из очередного столкновения иллюзии с реальностью предстояло родиться ряду концепций переделки косного русского народа, вплоть до его воспитания диктатурой пролетариата. Константин Леонтьев обоснованно считал, что «тот, кто понимает, до чего дорог культурный, национальный стиль для нашего государства, до чего спасительно может быть теперь для славянства постепенное свержение умственного ига Европы, тот должен желать не дальнейшего влияния “интеллигенции” нашей на простолюдина русского, а наоборот, – он должен искать наилучших способов и наилегчайших путей подражания мужику… Нам нужно вовсе не смешение с народом, а сходство с ним».
Разочарование в иллюзии «русского Запада» некоторых наблюдательных и последовательных русских людей не способствовало оздоровлению образованного общества. Интеллигенция либо оставалась глуха к их свидетельствам, либо готова была пожертвовать частью иллюзий «русской Европы», чтобы заменить их фикциями «европеизированной России». Возврат интеллигентского сознания к европейскому универсализму и широте произошел при смене народнической идеологии на марксистскую.
Ясновидческие слова, преисполненные любви и печали, обнажают духовную болезнь, разъедающую религиозные устои европейской культуры. Но то, что критикуется в Европе прозревшими русскими людьми, привлекает образованное общество. От десятилетия к десятилетию установка на «русский Запад» становится иллюзорнее, но авторитетнее в общественном мнении. Спектр идей, переливающихся в русскую культуру через образованные слои, становится радикальнее: от синкретической религиозности масонства – к атеизму, от идеализма – к марксизму, от либерального марксизма – к большевизму.
От самообличения к саморазрушению
Что отталкивало русскую интеллигенцию от реальной России, и каковы глубинные мотивы её «любви» к Западу? У интеллигенции были свои мотивы того, что она безболезненно усвоила и болезненно усилила наследие – инерцию беспочвенности. Интеллигенция яростно отторгалась от России потому, что иначе ей потребовалась бы глобальная переоценка ценностей, принципиальная смена жизненной позиции, принятие бремени долговременного исторического строительства на поприще непривычном и не обещающем скорых и блестящих плодов. Предстояло долго восстанавливать то, что разрушалось уже два века. Необходимо было самоотверженно отказаться от благ, которые были приобретены ценой порабощения народа. Потребовалось бы отказаться от многого того, что было мило с детства, и научиться любить многое, ставшее чужим. Необходимо было самоотверженно взять на себя историческую ответственность за прошлые грехи образованного сословия и за современное строительство. Русские творческие гении наметили и указали этот путь. Творчество А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, славянофилов можно характеризовать как попытку оздоровления корней, нахождения органичных путей русской культуры. Отказавшись следовать по пути, указанному русскими гениями, интеллигенция избрала наиболее легкое: историческую инерцию, бездумность, безответственность и необременённость. Выбор её, по существу, был отказом от свободного самоопределения и проявлением эгоистического своеволия.
Русскую интеллигенцию пленяло на Западе то, что позволяло ей укрепиться в привычном жизнечувствии и оправдать его. Европейская цивилизация была плодом возрожденческого индивидуализма. Отказ от христианских устоев вёл к дегуманизации «гуманистической» культуры Нового времени: деградации совести, чувства ответственности, раскрепощению эгоистической самости, инстинктов и их моральной легализации. К этому мироощущению и стремилась присоединиться русская интеллигенция, ибо оно оправдывало её экзистенциальное положение и амбиции, давало видимую «великую» цель, легкодоступные и «престижные» средства к её достижению. Так иллюзия «русского Запада» становится не только унаследованной, но и востребованной установкой русской интеллигенции. Отказ от экзистенциальной иллюзии равнозначен для неё аскетическому самоотречению, на что не способна безрелигиозная воля. Путь внутренней аскезы, духовного совершенствования представляется профанному атеистическому сознанию пошлым.
Выбор между почвой и лжеевропеизмом был для интеллигенции выбором между духовной жизнью и смертью. Это видно на примере Белинского – чуткого «барометра» духовного состояния эпохи. В период органичного восприятия реальности для Белинского были важны идеи национальной самобытности, исторического призвания народа, миссия России. Это не закрывало от него культурных достижений Запада. Когда он окунулся в лжеевропеизм, Россия превратилась в его глазах в задворки Европы, где он увидел только религиозное мракобесие народа и варварскую деспотию власти. В Европе Белинский ценит уже не Шеллинга и не Гегеля, а Фейербаха и социалистов, ради торжества идей которых он готов принести в жертву миллионы голов.
Отсюда очевидна закономерность: при ориентации на органичную национальную культуру сознание человека наиболее открыто, целостно, оно объемлет достижения отечественной и зарубежной культуры, творчески их синтезируя. Патриотическая установка наделяет христианским универсализмом. Те, кто видел опасности, таящиеся в западной цивилизации, не потеряли любовь к Европе и высоко ценили её культурные достижения. «Страной святых чудес» называл Европу славянофил Хомяков, это повторил другой её критик – Достоевский. Вот что пишут о Западе «антизападники» в России – славянофилы: «Оторвавшись от Европы, мы перестаем быть общечеловеческой национальностью» (И.В. Киреевский). «Мы действительно ставим западный мир выше себя и признаем его несравненное превосходство… Есть невольное, почти неотразимое обаяние в этом богатом и великом мире западного просвещения» (А.С. Хомяков). «Не закопал Запад в землю талантов, данных ему от Бога. Россия признает это, как и всегда признавала. И сохрани нас Бог от умаления заслуг другого. Это худое чувство» (К.С. Аксаков).
Тотальная ориентация на иллюзию «русского Запада» примитивизирует, профанирует – искажает, опошляет сознание, сужает культурный горизонт интеллигенции. Из поля зрения выпадают не только достоинства русской культуры, но и достижения западной, сознание фокусируется на периферийных явлениях западной цивилизации. Остаётся ослепление не реальным, а мифическим западным просвещением и цивилизацией. Гоголь писал Белинскому в ответ на его знаменитое письмо: «Вы говорите, что спасение России в европейской цивилизации, но какое это беспредельное и безграничное слово! Хоть бы вы определили, что нужно подразумевать под именем европейской цивилизации? Тут и фаланстеры, и красные, и всякие – и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает поневоле: где наша цивилизация?»
Но образованное общество идёт не по пути зрячего Белинского, а вслед за ослепшим Белинским. Разоблачения иллюзии «русского Запада» в глазах интеллигентского общества не произошло.
И.В. Киреевский писал о русских интеллигентах: «Безусловное пристрастие к западной образованности и безотчетное предубеждение против русского варварства заслоняли от них разумение России». Стыдясь своего азиатского, варварского происхождения, интеллигенция стремилась отделаться от остатков разумения России и присоединиться к европейской просвещённости. Это рождало у интеллигенции чувство национального самоуничижения. Ей не только мало знакомо чувство патриотизма (естественное для всякого европейца), перед лицом европейской цивилизованности интеллигенция стыдилась своей русскости. В раболепии нашей интеллигенции перед Западом «проявляется какая-то страсть, какая-то комическая восторженность, обличающая и величайшую умственную скудость, и совершенное самодовольство» (А.С. Хомяков).
Интеллектуальное плебейство вынуждало интеллигенцию заискивать перед Западом. Каждый иностранец, приехавший с Запада, до сих пор приветствуется в интеллигентском сообществе как кровный брат, как посланник духовной родины, повстречавшийся на чужбине. Всякое легковесное суждение европейца о России и русских воспринимается как пророческое обличение и указание на то, как надо понимать русский характер. Восторженно был встречен русским обществом злобный пасквиль маркиза де Кюстина. По авторитетному заявлению Герцена, «без сомнения, это самая занимательная и умная книга, написанная о России иностранцем». Вслед за Кюстином интеллигенция готова признать в характере русского народа все немыслимые пороки, приписываемые ему европейскими братьями по разуму. просвещённые умы России готовы согласиться с заявлением заезжего писаки: «Здесь всё нужно разрушить и заново создать народ» (Кюстин). К подобному выводу приходил и популярный в 1860-х годах публицист В.А. Зайцев: «Оставьте всякую надежду, рабство в крови их… Народ груб, туп и вследствие этого пассивен… Поэтому благоразумие требует, не смущаясь величественным пьедесталом, на который демократы возвели народ, действовать энергически против него».
Трезвые голоса в оценке кюстиновской характеристики России остались в меньшинстве и не услышаны интеллигентской публикой до сих пор. По словам Ф.И. Тютчева, «книга г. Кюстина служит новым доказательством того умственного бесстыдства и духовного растления (отличительной чертой нашего времени, особенно во Франции), благодаря которым дозволяют себе относиться к самым важным и возвышенным вопросам более нервами, чем рассудком; дерзают судить весь мир менее серьезно, чем, бывало, относились к критическому разбору водевиля». Симптоматично единодушие европейских скитальцев по России и русских скитальцев по культурным задворкам Европы. Последние разовьют свою заботу о народе до необходимости его перековки, раскулачивания, уничтожения как класса. Российские реформаторы 90-х годов XX века обладали тем же ущербным менталитетом и пытались до основанья всё разрушить, чтобы заново создать, взнуздывали народ очередными утопическими экспериментами – «демократизацией», «либерализацией», ваучеризацией…
Национальное самообличение интеллигенции не вполне искренне, ибо разумеется при этом, что признаваемые ею пороки были следствием исконно русского характера. Поскольку интеллигенты стремятся отделаться от русского варварства и прибиться к европейской просвещённости, то от национальных недостатков интеллигенция как бы избавилась. Пороки же остаются в характере азиатского российского народа и в русской азиатской деспотии. Очередь за перевоспитанием русского народа и разрушением русского самовластия.
Интеллигенция искренне ощущала окружающую жизнь бессмысленной, несправедливой, не могла в ней жить и стремилась во имя её изменения пострадать, пожертвовать собою. Борьба «против гнусной российской действительности» (В.Г. Белинский) становится основным жизненным интересом русской интеллигенции. И не столько российская, сколько вся и всякая действительность ощущалась ею как гнусная, – в образцовой Европе, как выяснилось, её воспаленное сознание не позволяло видеть действительность, а только собственные фантазии. Невозможность примирения с настоящим и маниакальная устремленность к грядущему – эта ложная эсхатологическая настроенность питалась ненавистью к неуютной, чуждой и взыскательной реальности, в которой не находилось места ложной установке. Жизнь отечества и народа враждебна интеллигенции, которая пребывает в ожидании социального чуда: окончательной гибели ненавистного мира.
В итоге интеллигенция, считая, что не принимает определённый тип жизни, отвергала жизнь как таковую. Л.А. Тихомиров, бывший одним из руководителей террористической организации «Народная воля», затем отошедший от революционной деятельности, описывает интеллектуальную атмосферу тех лет: «Это было возмущение против действительной жизни во имя абсолютного идеала. Успокоиться ему нельзя, потому что если его идеал невозможен, то, стало быть, ничего на свете нет, из-за чего стоило бы жить. Он скорее истребит “всё зло”, то есть весь свет, всё, изобличающее его химеру, чем уступит».
Невыносимое положение, неумение и нежелание признать свою вину толкали революционную интеллигенцию к самоистреблению через разрушение мира вокруг себя. В бессознательном тяготении к небытию, в своего рода гипнозе небытия и коренится своеобразное самоотречение интеллигенции: так называемый «аскетизм», строгость её нравов, пафос героизма, готовность к самопожертвованию и «мученичеству». В интеллигенции происходит разделение по отношению к инстинкту смерти. Большая часть интеллигенции самозабвенно отдается сублимированию этого влечения в формах общественно полезной деятельности (либеральная интеллигенция) или революционной борьбы (радикальная интеллигенция). И то и другое, по существу, было разными формами разрушения реальности под знаменами её созидания. Инстинкт смерти диктовал предрасположенность радикальной интеллигенции к наиболее разрушительным социальным идеологиям. В идеологии светлого будущего она находит удовлетворение и оправдание своему бессознательному влечению к смерти через сублимацию Сублимация – психический процесс преобразования и переключения энергии аффективных влечений на цели социальной и культурной деятельности. разрушительных инстинктов в идеалах прогресса, блага человечества, революции, освобождения народа, светлого будущего…
К началу XX века в творческих кругах интеллигенции нарастает разочарование в благообразном самообмане. Тот, кто отказывается от маски созидательной деятельности, непосредственно откликается на зов смерти. Отсюда нарастание в интеллигентской среде настроений разочарования, отчаяния, тоски, ужаса бессмысленности жизни, волна самоубийств и сумасшествий. Искусство декаданса – упадничества, индивидуалистического пессимизма, неприятия жизни, эстетизации небытия – во многом выражало переживание смерти и бессмысленности жизни.
Александр Блок описывает духовное состояние того времени: «Интеллигентных людей, спасающихся положительными началами науки, общественной деятельности, искусства, – всё меньше… Это естественно, с этим ничего не поделаешь. Требуется какое-то иное, высшее, начало. Раз его нет, оно заменяется всяческим бунтом и буйством, начиная от вульгарного “богоборчества” декадентов и кончая неприметным и откровенным самоуничтожением – развратом, пьянством, самоубийством всех видов». Налицо разочарование в спасающих фикциях интеллигентской культуры и отсутствие подлинных высших начал жизни. Реальной укорененности в жизни не было, теперь рассыпаются и иллюзорные её опоры. Господствующее настроение обречённости и гибели считается признаком интеллигентности как таковой. От этого качества, уверен Блок, «не только отрекаться нельзя, но можно ещё утверждать свои слабости – вплоть до слабости самоубийства. Что возражу я человеку, которого привели к самоубийству требования индивидуализма, демонизма, эстетики или, наконец, самое неотвлечённое, самое обыденное требование отчаяния и тоски, – если сам я люблю эстетику, индивидуализм и отчаяние, говоря короче, если я сам интеллигент? Если во мне самом нет ничего, что любил бы я больше, чем свою влюбленность индивидуалиста в свою тоску, которая как тень всегда и неотступно следует за такою влюбленностью».
Это саморазоблачение индивидуалистического сознания интеллигенции. Но самосознание её не выходит за пределы рокового круга ложной экзистенции. Казалось, усвоено многое: что все, чем жила интеллигенция, рушится и гибнет и что требуется какое-то иное, высшее, начало. Осознано и то, в каком направлении можно искать эти начала жизни: «Если интеллигенция всё более пропитывается “волею к смерти”», – пишет Блок, – то народ искони носит в себе «волю к жизни». Но какой-то паралич воли (это естественно, с этим ничего не поделаешь) не позволяет интеллигентскому сознанию переступить ту «недоступную черту… которая определяет трагедию России». Душа интеллигенции развращена индивидуалистическим демонизмом и не способна подчиниться высшему началу. Религиозный вопрос жизни и смерти, вопрос веры и доверия Богу – это для интеллигенции, по выражению Мережковского, «самый нелюбопытный вопрос в наши дни». Любопытства остается только на героическое упоение собственной гибелью.
Жизнь и на краю бездны берёт своё, поэтому глашатаи смерти культуры не были способны ни на самоубийство, ни на убийство культуры. Но они разлагали её изнутри и распространяли то господствующее настроение («Слушайте великую музыку будущего… Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию». А.А. Блок), которое позволяет с энтузиазмом отдаваться палачам, когда они приходят к власти. Продажность и самоистребление интеллигенции в 1920-е годы – это логический итог реализации её инстинкта смерти. Когорты же революционеров не допускали интеллигентских гнилых мыслей и с остервенением продолжали раздирать Россию.
Марксизм как идеологию революционного разрушения интеллигенция воспринимала через иллюзию «русского Запада». Эта установка на восприятие фикций европейской культуры – очаг болезни в национальной душе, через который просачивались в Россию духи социального небытия. Лжеевропейское сознание усваивает изжитые и отброшенные Европой «рабочие гипотезы» культуры, превращающиеся в аксиомы мысли и директивы действия. В русскую душу вливаются идейные яды, изготовленные в европейских лабораториях мысли. Установка «русского Запада» – это чёрная дыра в русской душе. Америка, которой бредят перед самоубийством герои Достоевского Крафт («Подросток») и Свидригайлов («Преступление и наказание»), – это крайняя граница «русского Запада», точка схождения иллюзий за пределами всякой реальности. Туда и влечёт воспаленное воображение человека, порвавшего связи с жизнью. После циничного разоблачения всех иллюзий действительности обнажается прародина блуждающего духа. «В Америку», – возопил Свидригайлов перед самоубийством. (Подпольный суицидальный мотив проявляется и в «панамериканизме» современной интеллигенции в России.)
Так как жизнь сопротивляется откровенному влечению к смерти, то инстинкт смерти сублимируется в пафосе революционного переустройства мира. Точкой концентрации этой псевдосозидательной энергии интеллигенции была идея освобождения народа, спасения человечества.
Живая жизнь является укором больной совести интеллигенции, поэтому жизнь народа необходимо перестроить по своему разумению и подобию. Собственные прегрешения и недуги выносятся вовне, поэтому лечить и спасать нужно не себя, а народ и человечество. Вследствие этого интеллигенция была охвачена ложным сочувствием к выдуманному народу. Это констатирует Достоевский, обращаясь к интеллигенции: «Русский народ убеждён почему-то, что вы не об нём болеете, а об каком-то ином народе, в вашу голову засевшем и на русский народ не похожем, а его так даже презираете». Высокомерное чувство не было подлинной любовью к народу и не вело к пониманию его нужд. Экзальтированная забота о благе народа давала ложную компенсацию чувству исторической вины перед народом, поэтому она становится основной темой жизни интеллигенции. Все, что служит благу народа и его освобождению, есть добро, все, что мешает этому, есть зло. Ряды интеллигенции открыты тому, кто приемлет эту шкалу добра и зла и кто желает участвовать в общем деле – борьбе за освобождение народа. Этому подчиняются образ жизни и мысли интеллигенции, этим диктуются пуританские отношения внутри «ордена» и отношение интеллигентской общины к внешнему миру. Этот идеал представлял собой иллюзии лжеевропеизма, поэтому в российской действительности они превращались в полную фикцию. Действия, основанные на фикциях, разрушают реальность. Поэтому освобождение народа и дало противоположный результат.
Главным врагом народа объявляется основной исторический противник интеллигенции – традиционная российская власть. Ибо монархия, даже ослабленная историческими катаклизмами, являлась охранительной силой от диктатуры интеллигентских идей. Ненависть к самодержавию и обвинение его в грехах гнусной российской действительности укоренены в бессознательном стремлении не признавать собственной исторической вины. Поэтому энергия русской интеллигенции сосредоточивается на борьбе с азиатской деспотией – монархической властью.
По этой же причине интеллигенция яростно борется с религиозной верой своего народа. Предрассудкам народной веры – Православию – она противопоставляла предрассудки безрелигиозного гуманизма, механистическое мировосприятие, веру в естественное совершенствование человека и бесконечный прогресс человечества. Так усугубление беспочвенности образованного сословия приводит к отрыву от реальных нужд народа, от русской религиозности и органичной культуры, от творческой гениальности, от русской государственности. Это – принципиальный антипатриотизм и антирусскость русской интеллигенции.
Психологический облик, социальный статус и роль интеллигенции принудили А.П. Чехова произнести приговор: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр». Писатель говорит о «сволочном духе, который живёт в мелком измошенничавшемся душевно русском интеллигенте», который «брюзжит и охотно отрицает всё, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать… Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мыслях – и всё это в силу того, что жизнь не имеет смысла».
Будучи инициаторами духовного разложения, многие представители творческой интеллигенции ощущали приближающуюся гибель России, в связи с чем в обществе усилились апокалиптические предчувствия и ожидания. «Что-то в России ломалось, что-то оставалось позади, что-то, народившись или воскреснув, стремилось вперёд… Куда? Это никому не было известно, но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась трагедия» (З.Н. Гиппиус). В предреволюционные годы усиливались всеобщее беспокойство, духовное смятение, поиск мистических знамений и символов, предощущение катастрофы:
Двадцатый век… ещё бездомней,
Еще страшнее жизни мгла,
Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла.
(А.А. Блок)
Но когда русская катастрофа разразилась, даже зазывалы её, подобные А.А. Блоку, ожидавшему очищения в революционной грозе, не могли предвидеть её инфернального характера и тотальности.
В итоге можно согласиться, что «жизнь русской интеллигенции – сплошное неблагополучие, сплошная трагедия. Кажется, нет в мире положения более безвыходного, чем то, в котором очутилась русская интеллигенция, – положение между двумя гнетами: гнетом сверху, самодержавного строя, и гнетом снизу, тёмной народной стихии, не столько ненавидящей, сколько непонимающей, – но иногда непонимание хуже всякой ненависти. Между этими двумя страшными гнетами русская общественность мелется, как чистая пшеница Господня, – даст Бог, перемелется, мука будет, мука для того хлеба, которым, наконец, утолится великий голод народный; а пока всё-таки участь русского интеллигента, участь зерна пшеничного – быть раздавленным, размолотым – участь трагическая» (Д.С. Мережковский). Сквозь типично интеллигентские заморочки насчет гнёта самодержавного строя (вскоре интеллигенция вместе со всем народом ощутит, что есть настоящий гнёт) и тёмной народной стихии, которая не понимает «жертвенную» интеллигенцию (глядя в бездонный колодец тысячелетней национальной культуры через иллюзии «русского Запада», интеллигенция видела только тёмную бездну), у Мережковского проглядывает понимание безысходной трагичности безродного сословия, которое не утеряло ни возможности искупления, ни исторического назначения культурного слоя российского общества.
«Малый народ» против «Большого народа»
Доминирование психологии беспочвенности и отщепенства в элитах было общеевропейским явлением. Христианский мир с эпохи Возрождения переживал кризис дехристианизации, который в разных странах проявлялся в самобытных формах, но имел общие причины. И.Р. Шафаревич в книге «Русофобия» описывает концепцию Малого народа Великой французской революции Огюста Кошена. Силы русской революции 1917 года схожи с революционными силами во Франции, что говорит об общем недуге христианских народов. Орден русской интеллигенции – это Малый народ, или антинарод, который соединил русскую смуту и европейскую идеологию небытия. Западные и русские духи разложения обрели в «ордене» свою плоть.
«“Малый народ” – это антинарод среди народа, так как мировоззрение первого строилось по принципу обращения мировоззрения второго. Именно здесь вырабатывался необходимый для переворота тип человека, которому было враждебно и отвратительно то, что составляло корни нации, её духовный костяк… Общества, объединяющие представителей “Малого народа”, создавали для своих членов как бы искусственный мир, в котором полностью протекала их жизнь. Если в обычном мире всё проверяется опытом (например, историческим), то здесь решает общее мнение. Реально то, что считают другие, истинно то, что они говорят, хорошо то, что они одобряют. Обычный порядок обращается: доктрина становится причиной, а не следствием жизни. Механизм образования “Малого народа” – это то, что тогда называли “освобождением от мертвого груза”, от людей, слишком подчиненных законам “старого мира”, людей чести, дела, веры. Для этого в обществах непрерывно производят “очищения”. В результате создаётся всё более чистый “Малый народ”, движущийся к “свободе” в смысле всё большего освобождения от представлений “Большого народа”: от таких предрассудков, как религиозные или монархические чувства, которые можно понять только опытом духовного общения с ним» (И.Р. Шафаревич).
Культурная атмосфера Малого народа воспитывает «парадоксальное существо, для которого средой его обитания является пустота, так же как для других – реальный мир. Он видит всё и не понимает ничего, и именно по глубине непонимания и измерялись способности среди [них]… Представителя “Малого народа”, если он прошел весь путь воспитания, ожидает поистине чудесное существование: все трудности, противоречия реальной жизни для него исчезают, он как бы освобождается от цепей жизни, всё представляется ему простым и понятным. Но это имеет свою обратную сторону: он уже не может жить вне “Малого народа”, и в мире “Большого народа” он задыхается, как рыба, вытащенная из воды. Так “Большой народ” становится угрозой существования “Малого народа”, и начинается их борьба: лилипуты пытаются связать Гулливера… Только себя “Малый народ” называл народом, только свои права формулировал в “Декларациях”. Этим объясняется парадоксальная ситуация, когда “победивший народ” оказался в меньшинстве, а “враги народа” – в большинстве» (И.Р. Шафаревич).
На Руси и в период междоусобиц было сильно чувство православного единства. В соборном единогласии воспитывало русский народ Православие. Христианское благовестие в восприятии русской православной традиции обращено ко всем людям, в том числе и к грешникам. Христианские праведники, остро ощущая собственную греховность, в молитве и аскезе боролись не только со своими грехами, но принимали на себя бремя борьбы с грехами своего народа. Православие воспитывало милостивое отношение к заблудшим и падшим. Православная святость преисполнена кроткой любви и прощения. Православие соборно соединяло различные слои населения в единстве веры, взаимной любви и общего пути спасения. Дух национального раскола и психология избранничества были внедрены в русскую душу иосифлянством, что положило начало формирования Малого народа – социально-духовного слоя, противопоставляющего себя как носителя истины Большому народу.
Иосифлянство раскололо православный народ на враждебные лагеря: на праведников и грешников, на верных и неверных. Утверждалась предопределенность разделения, что соответствует не русским православным традициям, а средневековым европейским ересям и кальвинизму. Раскаяние грешника не признается, а покаявшийся еретик не может быть прощен, что привносит чуждый русскому благочестию дух западноевропейской инквизиции. Круг избранных во Христе ограничен стенами иосифлянских монастырей. Из монашества формируется дисциплинированное воинство Христово для религиозной битвы, завоевания; оно воспитывается в атмосфере жёсткого уставного благочестия, мелочной регламентации поведения, полного повиновения, слежки, доносов и строгих наказаний. Мир за пределами монастыря как бы не христианский, его предстоит завоевать и христианизировать. Методы «христианизации» достаточно агрессивны: неверные отлучаются, раскаявшиеся еретики не прощаются и подлежат сожжению живыми в железных клетках, а укрощенное «стадо» ограждается жёсткой уставной дисциплиной, увенчанной обрядовой пышностью. Внедрение бездумного законопослушания не способствовало нравственному и религиозному воспитанию, внутреннему преображению человека, а значит, не выполняло основной задачи Церкви.
Подобные новации вносили чуждую струю в русское православное благочестие, формировали психологию раскола, отщепенства, избранничества. Отныне носители и выразители религиозной истины ощущали себя выделенными из православного народа, поставленными над ним, призванными судить его и переделывать по своему образу и подобию.
Установки, выработанные в иосифлянской традиции, во многом предопределили опричнину Грозного. Чувства избранничества и отщепенства были внушены Грозному с детства в иосифлянском идеале святого царя, подчиняющегося непосредственно голосу Божиему. В болезненной душе эти чувства претворились затем в фобию тирана – навязчивое состояние страха и ненависти, принуждающее во имя самосохранения к кровавым репрессиям. Орден опричников, созданный для борьбы с враждебным окружением, – это оформившийся Малый народ, пытающийся подчинить Большой народ – земство.
Духи национального разброда господствовали на Русской земле в Смутное время. Смута в народной душе была инспирирована аристократическими кругами, которые прониклись идеями отщепенства от народа и государства. Спасло Русь и Православие религиозно-национальное чувство, сохранявшееся в низовых сословиях и провинции.
Иосифлянская муштра русской души привела к расколу православной религиозности. В раскол в XVII веке ушла та нетерпимая часть народа, которая ощущала себя избранной и религиозно верной. В её глазах жизнь вне староверия – это царство антихриста. Не имея сил перевоспитать Большой народ и бороться с ним, раскольники совершают исход из своего народа. Если бы победило фанатичное старообрядчество, это было бы торжество Малого народа над Большим. «Раскол был серьезным доказательством неспособности московского общества к мирному перерождению. В атмосфере поднятой им гражданско-религиозной войны (“стрелецких бунтов”) воспитывался великий Отступник, сорвавший Россию с её круговой орбиты, чтобы кометой швырнуть в пространство» (Г.П. Федотов).
Потерпев неудачу воплощения в церковных формах, дух Малого народа побеждает в революции Петра I. Его реформы реализовывали те установки на религиозный и национальный раскол, которые сформировались в иосифлянстве, закрепились и развились в последующих катастрофах. После Петра I в России формируется тип человека, который через иллюзию «русского Запада» сориентирован на восприятие развитой в Европе идеологии Малого народа.
Так характер интеллигенции, усвоившей к XIX веку психологию Малого народа, наследовал многие тёмные и разрушительные тенденции русской истории, сгустил раскольные стихии в русской душе. Иосифлянское отщепенство отзывается в ордене русской интеллигенции кастовой замкнутостью и «избранничеством», догматизмом, ложно понятым социальным служением, непримиримостью и жестокостью к инакомыслящим, гордыней и самодовольством лжесмирения. Трудно признать факт исторической эстафеты от иосифлянства к большевизму, но можно видеть близость типа ортодоксального большевика и ортодоксального иосифлянина, а также проследить, как заражающие идеи иосифлянства, преломляясь и отражаясь в различных исторических материях, оказались одной из причин катастрофы большевизма. Со времён Грозного радикальная интеллигенция унаследовала психологию ордена опричников: жестокость, разделение на своих и чужих, уверенность в праве распоряжаться национальным достоянием, равнодушие к высшим ценностям, к достоинству личности и к человеческой жизни. Интеллигенция смогла породить сталинских соколов – современных опричников – потому, что всегда несла в себе заряд опричнины. Дух Смуты сказался в мутности и неустойчивости душевного склада интеллигенции, в её антигосударственных и антиобщественных инстинктах. Радикальная русская интеллигенция – это вечная вольница, шляхетство, казачество, не прекратившаяся смута в русской душе. Стихия старообрядчества унаследована интеллигенцией в фанатизме и ограниченности, в религиозном отщепенстве от государства и народа, в искаженных эсхатологических чаяниях, в слепых поисках града Китежа – земного Царства Божьего. От петровских революций интеллигентский авангард несёт презрение к национальной культуре и к другим сословиям, религиозный индифферентизм, цинизм, слепое преклонение перед всем западным и стремление переделать русскую жизнь по европейским образцам. Так «орден» русской интеллигенции унаследовал стихии исторического рока, произвола и своеволия, отдавался исторической косности и фатуму и не смог возвыситься до творческой свободы и ответственности.
Русская дворянско-интеллигентская культура до конца прошла путь, навязанный историческим роком. Ведущие сословия не смогли и не захотели прервать дурной детерминизм истории – в творческом акте, свободном выборе, в нравственном и духовном искуплении. Судьба русской интеллигенции не была роковым образом предопределена, не исключала возможности искупления – освобождения от пленённости злым роком. Тяжкое наследие происхождения – не необратимый рок, а долг искупления грехов, задача духовного самоопределения, преображения исторической косности. Став «умом» нации, интеллигенция была призвана к осознанию миссии России, к поискам выхода из исторических тупиков (которые виделись русским творческим гениям). На интеллигенцию легла ответственность за судьбу народа, обязывающая к служению русской идее. Отчасти грехи образованных сословий искуплены явлением русской творческой гениальности, великой русской литературы и культуры.
Но в целом со своей исторической миссией русская интеллигенция не справилась. «Задача интеллигенции состоит именно в том, чтобы вести свой народ за национальной идеей и к государственной цели; и образованный слой, неспособный к этому, всегда будет исторически приговорен и свергнут… Русская интеллигенция не справилась со своей задачей и довела дело до революции потому, что она была беспочвенна и лишена государственного смысла и воли… русская интеллигенция в своей основной массе была религиозно мертва, национально-патриотически холодна и государственно безыдейна» (И.А. Ильин).
Можно утверждать, что «коммунистическая революция в России является логическим результатом оторванности интеллигенции от народа, неумения интеллигенции найти с ним общий язык и общие интересы, нежелания интеллигенции рассматривать самое себя как слой, подчинённый основным линиям развития русской истории, а не как кооператив изобретателей, наперебой предлагающих русскому народу украденные у нерусской философии патенты полного переустройства и перевоспитания тысячелетней государственности» (И.Л. Солоневич).
Глава 8. ДУХОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(XIX век)
Революция духа
В первой половине XIX века начался новый духовный этап в русской культуре. По значению этот период можно сравнить с рубежом XV–XVI веков, когда в споре стяжателей (последователей преподобного Иосифа Волоцкого) и нестяжателей (учеников преподобного Нила Сорского) осуществлялось духовное самоопределение народа. На исторической арене проявились новые силы, борьба которых изменила судьбу народа. Духовной революции противостоит духовная контрреволюция: против возрождения традиционной русской духовности восставали тёмные сил. Итоги этого столкновения и определили последующую историю России.
Революцией именуется радикальный переворот в каком-либо явлении. Если переворот касается глубинных онтологических, то есть духовных, оснований – это духовная революция. Вполне революцией – то есть радикальным изменением – является революция духа. В формальном аспекте революция – как резкая смена значений и смыслов, разрыв традиции, крутой поворот – противоположна эволюции. В содержательном аспекте революции противостоит контрреволюция, когда силам духовного переворота противостоят стихии консервации и активного отрицания нового смысла. Революция является таким поворотом в духовной органике явления, который не разрушает, не переиначивает его сущность, но придает ему новое качество и иное направление движения, высший характер и степень бытийности. Революция – это, по существу, духовный поворот и подъём в бытии, контрреволюция же всегда антидуховна и антибытийна.
Духовная революция – это прорыв духа в историческую косность, преодоление инерции истории, акт богоуподобления. Революция духа является через творчество личности, исполняющей миссию Божьего сотворца. При этом личность глубинно переориентируется для приведения нового опыта, новых жизненных реалий в соответствие с вечным творческим назначением. Это прорыв духа в бытии, новый акт выбора и новый поворот истории. Без творчески-волевых импульсов невозможно преображение человечества, ибо без них мир обрушивается в хаос либо зацикливается в механическом круговращении жизни, что является формами небытия. Контрреволюция – это торжество антиличностных стихий, выброс небытия в историю.
Духовная революция – явление глобальное, она протекает годы и десятилетия. Вначале она совершается на скрытой для мира сего глубине. Зарождается новая духовность в лоне святости и творческой гениальности. Святой и гений остро ощущают единство назначения и ответственности человечества, имеющего метаисторическую общность. Превращения в душах святого и гения рождают новые исторические идеалы. Их усилия пролагают новые пути и раскрывают новые горизонты, закладывают новую мировоззренческую ориентацию эпохи. Духовные светочи, живущие в одно время, не всегда знают о существовании друг друга, поэтому их пути могут пролегать независимо. Но их метаисторические миссии едины: гений создает новый творческий образ, святой вносит новый образ жизни и просветляет облик человека, творчество гения и святого преображает бытие.
Под воздействием творческого акта в обыденной жизни проявляются силы, солидарные с творческой новизной, одновременно пробуждаются стихии косности и активного сопротивления новому импульсу духа. Дух небытия концентрирует в контрреволюции стихии борьбы с духовной революцией. Поэтому контрреволюция всегда антидуховна, антиперсоналистична, направлена на уничтожение богочеловеческого созидания. Творческому преображению жизни контрреволюция противопоставляет историческое закостенение или социальный хаос, взлёту духа – профанацию и пошлость, свободе в духе – рабство, социальный произвол, своеволие самости. Социальный и политический переворот, который обыкновенно называется революцией, по существу является контрреволюцией – поражением духовной революции, бунтом хаоса против нового смысла. Социальная революция есть результат предварительных духовных битв в организме нации, торжество, как правило, тёмных стихий – выброс в историю социального хаоса и накопившейся агрессии. Считая революцию 1917 года по существу духовной контрреволюцией, я оставляю далее общеупотребимое обозначение словом «революция» всех радикальных политических переворотов. Вместе с тем понятие «духовная революция» будет означать благотворный духовный переворот, который и совершился в русской культуре XIX века.
К XIX веку в России сложились объективные условия для духовного прорыва. Своеобразие истории России в том, что русскому народу-государствообразователю приходилось вести непрерывную борьбу за самосохранение, что требовало предельного напряжения сил. Бесконечные нашествия с востока, юга и запада, экстремальные по сравнению с европейскими странами природные и географические условия, военная защита и хозяйственное освоение огромных пространств истощали силы народа. Со временем объективное историческое бремя облегчалось. К XIX веку Россия впервые получила возможность экономии сил.
После Смутного времени начала XVII века на Россию более не обрушивались такие бедствия, которые грозили бы существованию русского государства. К XIX веку Россия, вопреки ряду катастроф, сохраняла самобытность и впервые вошла в относительно спокойный исторический период. Нельзя сказать, что предшествующий XVIII век был благополучным во всех отношениях: немецкое засилье, усиление закрепощения большей части населения, угнетёние Церкви и православной культуры – при Екатерине II секуляризация церковного имущества и земель проводилась в грубой форме, сопровождавшейся закрытием храмов, монастырей, уничтожением икон и церковных книг. Всё же это было другое измерение испытания народных сил. Там, где веками грозила смертельная опасность, давление ослабло: Россию не разрывали внешние нашествия и внутренние смуты. Век сравнительного благополучия настолько усилил мощь Российского государства, что во время наполеоновского нашествия вопрос о жизни и смерти нации объективно не стоял. Великую страну можно было унизить, но извне повергнуть окончательно стало невозможным.
Относительная устойчивость государственного строя и социально-экономического уклада способствует тому, что напряженная борьба за выживание сменяется эпохой самовыражения. Высвободившиеся национальные силы сосредоточиваются на внутренних задачах, выделяется сфера культурного делания. С конца XVIII века складывается светское образованное общество и появляются зачатки общественного мнения, формируется своеобразная светская русская мысль и литература. Вопреки господствующим антиправославным веяниям в общество возвращается национальное самосознание. Образованное сословие начинает осознавать своё религиозное призвание, что выражается в творчестве Ломоносова и Державина. Зачавшееся движение несёт слабости и пороки прошлого, отражает болезни общества. Но в глубине души народа зарождаются некие сдвиги, принципиальная новизна и глобальность которых позволяют говорить о начале революционного поворота в судьбе России.
Наступление новой духовной эпохи ощущалось с начала XIX столетия. «Вся значительность Александровского времени в общей икономии нашего культурного развития ещё не была опознана и оценена до сих пор… Это был момент очень взволнованный и патетический, период великого творческого напряжения, когда с такой смелой наивностью была испытана и пережита первая радость творчества… Александровская эпоха вся в противоречиях, вся в двусмысленности и двуличии. Всё двоится в жизни и в мыслях… И впервые завязывается открытый (хотя не свободный) религиозно-общественный спор… То было начало новой эпохи, бурной и значительной» (Г.В. Флоровский).
На новых духовных движениях лежала тень прошлого. В это сложное и путаное время духовная жажда нередко выводила на периферию культуры, за пределы христианства страждущих, которым недоставало цельности личного характера, сердце и разум, чувство и воля которых были в разладе. На культурной жизни запечатлелось влияние века Просвещения, хотя борьбой с просвещенческим рационализмом определялось господствующее умонастроение. Повсеместно предчувствовалось наступление новизны и общекультурных изменений. В двоящейся атмосфере смутных ожиданий и поисков и происходит порыв ясного, светлого и цельного духа.
Петровские «реформы» разрушили в дворянстве способность чувствовать своё, национальное. Атрофия национального самочувствования культурных сословий продолжалась долго, но постепенно оно оживало. В конце XVIII – начале XIX века в образованном обществе осознаются ценность и величие национальной истории до Петра. Пушкин описывает общественную атмосферу после выхода первых томов «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего Отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили». В то же время зарождается общественный интерес к древнерусской литературе. Со второй половины XIX века пробуждается интерес к архитектуре Древней Руси, что сказалось на архитектурном стиле времени. Поиски национальных мотивов выразились и в живописи (А.А. Иванов), и в музыке (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков). Восстановление национальной памяти и сознания более всего выразилось в художественной литературе, почему писатели и стали властителями дум. В конце XIX века происходит «открытие» древнерусской иконописи. В начале ХХ века в творческой интеллигенции пробуждается интерес к Церкви; возникает движение за восстановление патриаршества. Таким образом, после столетия самозабвения образованных слоёв (XVIII век) в течение XIX века и в начале XX века в них нарастает возврат к национальным духовным истокам.
Революция духа выразилась в явлении великой творческой личности, вбирающей достижения прошлого и дающей миру новый облик жизни, – это святость Серафима Саровского и гений Александра Пушкина. Они не знали друг друга, но были посланы на землю с общей миссией, питал их единый Дух. Они были призваны в современных формах созидать то, что раздвигало исторические горизонты, истинно ориентировало жизнь.
Явление преподобного Серафима и Пушкина не обусловлено естественно-исторически. Это порыв духа, духовная революция. Но духовный взлет личности говорит о том, что в душе народа происходят глубинные превращения, ибо личный дух в основе своей соединен с соборным духом народа. В Серафиме Саровском и Александре Пушкине проявились высшие черты национального характера. Можно сказать, что душа русского народа самоопределялась через души великого праведника и гениального поэта. Если на поверхности Россия ещё оставалась ученицей Европы, то в лице Серафима Саровского и Александра Пушкина она духовно предварила наступающую эпоху национального самосознания. Борьба сил духовной революции и контрреволюции является определяющим фактором истории России последних двух столетий. В этой борьбе и её итогах Россия в духовном измерении на столетие опередила историю христианского человечества. Поэтому смысл происходящего в России имеет провиденциальное значение для всего мира. Судя по всему, Александр Пушкин осознавал, что в его время и с него начинается революция духа в России: «Только революционная голова, подобная Мирабо и Петру, может любить Россию так, как писатель только может любить её язык. Всё должно творить в этой России и в этом русском языке» (А.С. Пушкин).
Выявить смыслы духовной революции в России трудно, так как она потерпела поражение в контрреволюции 1917 года и не реализовалась в социально-политическом измерении. Образ преображающего духа можно обнаружить в тенденциях, очертить его можно «пунктирно». Основной смысл духовного поворота, начавшегося в России в XIX веке, состоит в попытке очищения органичного духовного облика России, поворота к православным истокам русской цивилизации, осознания исторической миссии русского народа, русской идеи, искажённой и насильственно прерванной в прошлом.
Явление святости – преподобный Серафим Саровский
Новый духовный облик эпохи определился с начала века: «Были тайные посещения Духа. Во всяком случае, начало прошлого века в судьбах русской Церкви отмечено и ознаменовано каким-то внутренним таинственным сдвигом. Об этом свидетельствует пророческий образ преп. Серафима Саровского (1759–1833), его подвиг, его радость, его учение. Образ вновь явленной святости оставался долго неразгаданным. В этом образе так дивно смыкаются подвиг и радость, тягота молитвенной брани и райская уже светлость, преображение уже неземного света. Старец немощный и премудрый, “убогий Серафим” с неожиданным дерзновением свидетельствует о тайнах Духа… В его опыте обновляется исконная традиция взыскания Духа. Святость преп. Серафима сразу и древняя и новая» (Г.В. Флоровский).
Преподобный Серафим учит: «Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего». Каждая личная и соборная вечная душа призвана к духовной миссии спасения на этой грешной земле, воплощению в мире сем замысла Творца, возложенного на нас в вечности. В отношении преподобного Серафима к людям, в его постижении человеческой души возрождалась древнерусская традиция духовного делания. По глубине и по охвату мысль преподобного Серафима сравнима со Святыми Отцами и Учителями Церкви, а также с вершинами русского религиозного сознания, явленными митрополитом Иларионом, преподобным Сергием Радонежским, преподобным Нилом Сорским.
Отношение преподобного Серафима к духовному достоинству человека можно характеризовать словами протоиерея Александра Шмемана, сказанными о святом Симеоне Новом Богослове: «В этих “духоносных” старцах обретает Церковь тот полюс свободы от мира, свободы оценки в мире, которого ей так не хватает в её тесном браке с Империей. Потому что это богословие от опыта, не от книг, и в нём христианство оживает именно в своём “практическом” значении, как борьба за настоящего человека».
Вселенский горизонт души – верность заветам прошлого, обращенность к грядущему и чуткость к настоящему, стремление всё осознать и за всё принять ответственность – христианский универсализм роднит Александра Пушкина с Серафимом Саровским. Святой и поэт на церковном и мирском полюсах несли в жизнь высокий идеал христианской духовности и любви, новое откровение православной соборности. «Пока латинская схоластика царствовала в русских семинариях, преп. Серафим Саровский раскрывал в беседе с Мотовиловым глубочайшее учение о стяжании Святого Духа» (прот. Александр Шмеман). Стяжание Духа Святого – это завет Серафима Саровского, новое приоткровение природы Божественной Ипостаси, единящей всех и вся в любви. Соборность русской духовности выражалась в том, что преподобный Серафим был необыкновенно открыт людям – к каждому приходящему он обращался: «Христос воскресе, радость моя». Серафим Саровский стяжал уникальный дар христианской всепрощающей любви, он умел увидеть, понять и полюбить в каждом человеке его грешную, но стенающую вечную душу. Постижение даров Духа Святого – это и новое углубление в тайну Святой Троицы. То, что преподобный Серафим особо выделил Ипостась Духа, может говорить и об отношении святого к культуре, ибо Святой Дух глубинно питает созидание духовной культуры. Это свидетельствует и о зачавшейся духовной революции.
В облике Серафима Саровского и творчестве Пушкина вновь засияли исконные идеалы всечеловечности русской идеи. Это был новый этап раскрытия универсализма православного воспитания души. Преподобный Серафим неповторимо объединил все пути святости: он пустынник, столпник, молчальник, страстотерпец, затворник, учитель народа, чудотворец... В его миссии можно увидеть достижения всей православной святости: византийской, древнекиевской, радонежской, нестяжательской, иосифлянской. немощный и убогий Серафим был титаном духа – он вмещал весь опыт христианской аскетики.
На явление гения Пушкина русская культура ответила великой классической литературой. Явление святости преподобного Серафима выводило из подполья и укрепляло православную русскую духовность, хотя и не в официальных формах церковной жизни. То, что просияло в Серафиме Саровском, разлилось тихим светом по монастырям и скитам Русской церкви.
«Столетия Империи, создавшие если не разрыв, то холодок между иерархической церковью и народной религиозностью, не убили святости. Как ни странно это может казаться на первый взгляд, но в бюрократической России, западнической по своей культуре, русская святость пробуждается от летаргии XVIII века. Как будто удушливая теплица бытового православия была для неё менее благоприятной средой, чем холод петербургских зим. Вдали от покровительственных взоров власти, не замечаемая интеллигенцией, даже церковной иерархией, духовная жизнь теплится и в монастырях, и в скитах, и в миру. Русский монастырь последних веков далёк от своего духовного идеала. К концу синодального периода упадок, иногда в очень тяжелых и соблазнительных формах, наблюдается в огромном большинстве монастырей. Но в самых распущенных среди них найдется иногда лесной скиток или келья затворника, где не угасает молитва. В городах, среди мирян, не только в провинциальной глуши, но и в столицах, среди шума и грохота цивилизации, проходят своим путём юродивые, блаженные, странники, чистые сердцем, бессребреники, подвижники любви. И народная любовь отмечает их, в пустынь к старцу, в хибарку к блаженному течет народное горе в жажде чуда, преображающего убогую жизнь. В век просвещённого неверия творится легенда древних веков» (Г.П. Федотов).
С середины XIX века таким духовным очагом, несущим немеркнущий свет Православия во тьме обезбоженного мира, явилась Оптина пустынь. Монастырь возрождал заветы подвижников Древней Руси. Оптинские старцы воссоздавали нестяжательскую традицию ученого монашества, духовного пастырства. Народная Русь бесчисленными потоками стекалась к духовному своему сердцу, тысячи известных и безвестных жаждали получить духовную поддержку у Оптинских старцев. Из этого центра духовные токи православной культуры воздействовали на светскую культуру, здесь святость соединялась с гениальностью. немалое число русских писателей и мыслителей приобщались духу Православия у оптинских подвижников: братья Киреевские, Н.В. Гоголь, Н.Ф. Фёдоров, Ф.М. Достоевский, К.Н. Леонтьев, Вл.С. Соловьев и многие другие.
«Здесь русский дух» – Александр Пушкин
Поэзия для Пушкина не была хобби или родом профессиональных занятий. Поэтическое творчество – это наиболее адекватная форма его жизни. В поэзии и через поэзию Пушкин был связан с Высшей Реальностью, проживал свою судьбу, переживал судьбу своего народа, культуры, мира, открывал для себя новые измерения бытия. В этом смысле Марина Цветаева говорила, что «Пушкин – поэт с историей». Валентин Непомнящий отмечал, что Пушкин входил в стихотворение одним, а выходил другим, для него поэзия – это сама жизнь, прохождение жизни в слове, это эстетика не отображения жизни, а эстетика преображения жизни. Поэтому сложнейшие и глубочайшие смыслы в творчестве Пушкина выражены удивительно ясно и прозрачно. «У Пушкина почти нет загадок. Во-первых, он слишком уважал своего “благосклонного читателя”, чтобы предлагать ему ребусы. Во-вторых, Пушкин прост потому, что в последний период творчества настолько разобрался в себе и в окружающем мире, насколько это вообще доступно мирскому человеку. В-третьих, внутренняя ясность отлилась в предельно четкие словесные и художественные формы» (Г.А. Анищенко).
Универсальность пушкинского гения непревзойденна, и этот феномен не поддается эмпирическому объяснению. Его всечеловеческое творчество вобрало основные темы и проблемы европейской и мировой литературы. Пушкин, имея неповторимый творческий облик, пропустил через себя влияния многих авторов, впервые внёс в русскую литературу жанровое и видовое разнообразие европейских литератур. Будучи уникальным русским писателем, он обладал сверхъестественной способностью проникаться духом иноязычных литератур и чутко передавать их национальный колорит. «Наиболее изумительной чертой Пушкина, определившей характер века, был его универсализм, его всемирная отзывчивость» (Н.А. Бердяев).
В открытости Пушкина сказалась русская духовность. Поэт называл себя «эхом русского народа». Гоголь говорил, что Пушкин есть, «может быть, единственное явление русского духа». Уже расхожим стало утверждение: «Пушкин – это наше всё». Непомнящий отмечал, что ни к одному другому литератору в мире народ не относился так, как к Пушкину. Невозможно себе представить, чтобы каждая годовщина Шекспира или Данте отмечалась всенародно, а у их памятников ежегодно появлялось множество цветов. Ни к кому не относятся столь многогранно: на одном полюсе всенародно слагаются анекдоты, на другом – видят в нём национального пророка. Пушкин – это «Россия, выраженная в слове» (В.С. Непомнящий); он олицетворяет национальное сознание и жизнеощущение. Пушкин грациозно переводил образы европейской литературы в литературу отечественную, а русскую культуру расширял до общечеловеческой. При этом разрабатывал разнообразные литературные жанры и проблемы культуры – не только поэзии и художественной литературы, но и языка, истории, театра, философии, политики.
Глеб Анищенко обратил внимание на то, что «Гоголь когда-то обозначил именно нынешний временной рубеж для начала истинного понимания Пушкина, говоря о том, что он – “русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет”. Двести лет минуло». Современный литературовед Н.Н. Скатов полагает, что слова Гоголя следует понимать «не в том смысле, что через 200 лет явились сонмы русских Пушкиных или в роли некоего коллективного Пушкина предстала вся нация. Речь идёт именно о развитии самого Пушкина на протяжении этих 200 лет нашей жизни и в нашей жизни. Может быть, ещё никогда Пушкин как русский человек не представал перед нами как целый космос русской жизни в такой свободе, в такой непредвзятости, в такой возможности выбора, столь избавленным от односторонности. И в такой силе призыва к восприятию себя».
«Этот “призыв к восприятию” трудно не почувствовать сегодня при серьезном соприкосновении с произведениями поэта. Может быть, действительно мы получили сейчас шанс подойти к довольно полному пониманию пушкинского творчества. Для этого, однако, совершенно необходимо очистить своё восприятие от прежних наслоений: отказаться от идеологических и исторических стереотипов; не размениваться на рассмотрение периферийных сторон творчества, а сосредоточить внимание на главных направлениях; заставить себя воспринимать прямой смысл написанного, а не искать несуществующие (но желаемые) подтексты; читать Пушкина, а не подглядывать за его личной жизнью» (Г.А. Анищенко). В чём явилось значение Пушкина за прошедшие двести лет и в чёмего провиденциальное значение для современности?
Как преподобный Серафим в Православии, так Пушкин в светской культуре, подобно духовному кристаллу, вбирает достижения прошлого, творчески их преобразуя и задавая новые измерения будущего. «Пушкин был живым средоточием русского духа, его истории, его путей, его проблем, его здоровых сил и его больных, чающих исцеления узлов… Единственный по глубине, ширине, силе и царственной свободе духа, он дан был нам для того, чтобы создать солнечный центр нашей истории, чтобы сосредоточить в себе всё богатство русского духа и найти для него неумирающие слова. Он дан был нам как залог, как обетование, как благодатное удостоверение того, что и на наш простор, и на нашу страсть может быть найдена и создана завершающая и совершенная форма. Его дух, как великий водоем, собрал в себя все подпочвенные воды русской истории, все живые струи русского духа» (И.А. Ильин). Творческий гений Пушкина опережал своё время. Его жизнь подобна свернутой во времени жизни русского национального духа – она повторяет этапы его становления и раскрывает будущие пути. Отсюда сугубый интерес поэта к истории своего народа – как истории его собственной души, а также обращенность к будущему – его пророческое служение. Гений, открываясь измерениям вечности, мог предвидеть нечто в будущем.
Юный Пушкин преисполнен энергии жизнерадостного язычества и страстного возрожденчества. «Лирический герой раннего творчества Пушкина воспринимает жизнь как цепь, состоящую из отдельных мгновений» (Г.А. Анищенко). Но молодой поэт не мог не осмыслить мировоззренческие основы такой жизненной позиции: «Восемнадцатилетний поэт смог четко определить мировоззренческий исток такого “мгновенного” мировосприятия и назвать его: безверие. Тот, “кто с первых лет безумно погасил отрадный сердцу свет”, вынужден жить лишь мгновением, так как для него земная жизнь не может представляться чем-то цельным, а жизни вечной не существует» (Г.А. Анищенко). Это время душевных кризисов, внутренней опустошенности, духовного томления и тоски. «В сознании героя пушкинской лирики возникает и до предела обостряется к концу южного периода трагический конфликт между ощущением полной бессмысленности жизни, с одной стороны, и с другой – страхом перед бессмысленной смертью, пожирающей всё-таки дорогие мгновения жизни» (Г.А. Анищенко).
«Пушкин часто был эолова арфа либерализма на пиршествах молодежи, откликаясь теми голосами, которые на него налетали» (П.А. Вяземский). У века Просвещения он заимствует кощунственное отношение к религии (создание «Гаврилиады»), увлечение либеральными идеями и социальными утопиями. «“Дух отрицания”, с такой силой обрушившийся на человеческую личность, естественно, затронул и все области её воззрений. Безверие, которое раньше переживалось как трагедия, теперь принимает вид фривольного кощунства или богоборчества. В сфере социально-политической прежние просветительские устремления сменяются революционными призывами к кровопролитию. В начале 1820-х годов богоборчество и революционность образуют некое нигилистическое единство в творчестве поэта» (Г.А. Анищенко).
Пушкин становится апологетом и певцом тираноборчества: «В деспотическом государстве тираноборец, политический убийца заменяет и подменяет собой закон. Эта подмена происходит в кругу земных реалий. Однако пушкинский тираноборец, совершая суд, руководствуется отнюдь не собственным произволом: он получает некую санкцию свыше» (Г.А. Анищенко). В «Кинжале» инерция безверия доводит до логического предела: «“Вышней” силой, “богом” “юных праведников” является прямая противоположность Христу – анти-Христос… революционеры-тираноборцы приводят в исполнение приговор “высшего суда” анти-Христа, подменяющего собой Христа истинного» (Г.А. Анищенко). Поэт заражался господствующими идеями своего времени и выражал их с разрушительной поэтической силой. Пушкинский «Кинжал» стал чуть ли не гимном декабристов. О тогдашнем положении Пушкина писал П.А. Вяземский: «Хотя он и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере».
Юный поэт дошёл до края и заглянул в инфернальные бездны, но нашёл в себе силы отшатнуться, ибо пушкинский атеизм не был тотально безысходным. «Ему уже тогда противоречили некоторые основные тенденции, определяющие собственный духовный склад Пушкина… Мы насчитываем три такие основные тенденции: склонность к трагическому жизнеощущению, религиозное восприятие красоты и художественного творчества и стремление к тайной, скрытой от людей духовной умудрённости… Этот духовный опыт должен был уже рано привести Пушкина к ощущению ложности “просветительства” и рационалистического атеизма» (С.Л. Франк).
С 1824 года и Михайловской ссылки начинается духовное перерождение Пушкина. Глеб Анищенко полагает, что в «Пророке» 1826 года Пушкин описывает коллизии в душе поэта: «В “Пророке” говорится о том, о чем там написано прямо: о чуде непосредственного откровения Бога человеку и о чудесном изменении всей сущности человека» (Г.А. Анищенко). Поэтому «“Пророк» является не только вершиной пушкинской поэзии, но и всей его жизни, её величайшим событием… В зависимости от того, как мы уразумеваем “Пророка”, мы понимаем и всего Пушкина… Если это есть только эстетическая выдумка, одна из тех, которых ищут литераторы, тогда нет великого Пушкина» (прот. Сергий Булгаков). Итогом духовных превращений и обретения божественных даров (всеведения, всеслышания, пророческого слова, исполненности Божьей воли) явилось рождение пророка, «перед которым Бог ставит совершенно определённую задачу: “глаголом жги сердца людей”… В “Пророке” подобный призыв обретает новый, глубочайший смысл только потому, что он есть не мысль поэта, а непосредственная воля Бога… Сердце, душа и разум героя-пророка, исполненного волей Бога, направляются на то, чтобы донести эту волю до сердец ближних. Чудо, описанное в “Пророке”, и может быть единственным объяснением рождения “нового” Пушкина в середине 1820-х годов… Чудесное рождение “нового” человека вовсе не означает его последующего чудесного бытия. Пушкин, рожденный как бы заново чудесным образом, в последующий период испытывает все трудности становления новорожденного организма. Со всеми болезнями, подвергающими этот организм жесточайшим испытаниям» (Г.А. Анищенко).
В период возмужания в душе поэта совершается переоценка ценностей. В «Борисе Годунове» он полемизирует с декабристами, декларируя неприятие социальных потрясений. Наступают годы духовных исканий, поиска ответов на главные вопросы. Пушкин обращается к прошлому своей родины (занятия историей), переживает врастание в национальную традицию, приобщение к корням национальной культуры. Это также время создания семьи как онтологической связи с предками и потомками – обретение глубинных душевных корней, без которых душа человека усыхает. «Приблизительно в это время (начиная с “Бориса Годунова”) Пушкин в духовном, нравственном, мировоззренческом и даже политическом смыслах стал с неимоверной скоростью обгонять своё время, своё общество. Вскоре голос прежнего всеобщего любимца перестал восприниматься современниками как нечто внятное. (Показательно, что квартира, где умирал поэт, была завалена его нераспроданными изданиями: Пушкина просто не читали)» (Г.А. Анищенко). Об этом свидетельствовал и Н.В. Гоголь: «Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал, наконец, не Байрон, а Пушкин, – общество от него отвернулось».
В последний, прерванный смертью период жизни поэт достигает духовного просветления. Зрелый Пушкин высоким творчеством и достойной жизнью расширяет духовные горизонты русской культуры. «Вся жизнь Пушкина раскрывается перед нами как постановка и разрешение основных проблем всероссийского бытия и всероссийской судьбы. Он всю жизнь неутомимо искал и учился. Именно поэтому он призван был учить и вести. И то, что он находил, он находил не в виде отвлечённых теорий, а своим собственным бытием: он сам был и становился тем, чем он “учил” быть; он учил, не уча и не желая учить, а становясь и воплощая. И то, что его вело, было вдохновение, вызывавшееся в нём всяким божественным явлением на его пути, и любовь к России – страстное и радостное углубление в русскую стихию, в русскую душу, в русское прошлое, в русскую простонародную, сразу наивную, откровенную и детскую жизнь» (И.А. Ильин).
В лице праведника и поэта созидание жизни и культуры в России обретало новое качество. Последующие достижения русской культуры зачинаются в этом духовном узле. Как писал Юрий Лотман, «Пушкин, конечно, не производил хронологических расчетов с карандашом в руках, но он ощущал ритмы истории». Поэтому Пушкин сознавал, что ему приходится открывать новую эпоху: «Радищев был для него… не человеком, начинающим новую эру, а порождением умирающей эпохи. Восемнадцатый век был для него таким же “великим концом”, как и первый век нашей эры, завершением огромного исторического цикла» (Ю.М. Лотман). Говоря о Радищеве, Пушкин утверждает, что господствующие тенденции минувшего века не достойны подражания и продолжения: «В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя; но всё в нескладном, искажённом виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему, – вот что мы видим в Радищеве… Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви». Большинство общества разделяло взгляды Радищева, но Пушкин пытается вернуть образованный слой в русло отечественной истории: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал».
Пушкин характеризовал тлетворный дух XVIII века: «Ничто не могло быть противуположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал своё имя. Она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием её была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная». В начале XIX века в церковной культуре царили рационализм и школьное начётничество – как реакция на вольнодумное и легкомысленное XVIII столетие. В светской культуре господствовала сентиментальная и романтическая расслабленность ума и воли. Но Александру Пушкину, подобно Серафиму Саровскому, свойственны беспрецедентная для века метафизическая реалистичность и углубленность. «Наряду с поэтическим гением нельзя не удивляться в Пушкине какой-то нарочитой зрячести ума: куда он смотрит, он видит, схватывает, являет. Это одинаково относится к глубинам народной души, к русской истории, к человеческому духу и его тайнам, к современности и современникам» (прот. Сергий Булгаков).
Пушкин создает современный русский язык: «Пушкин чародей родного языка, закончивший его чеканку, как языка совершенного, мирового. Говорить по-русски – теперь значит говорить на пушкинском языке» (А.В. Карташев). Русский литературный язык он обогатил церковно-славянизмами, осовременив многие архаические формы, а также вводил в высокую культуру простонародные языковые пласты. Гений поэзии, наделенный безукоризненным чувством языка, использовал высокий стиль, торжественность и поэтичность церковнославянского языка, избегая выспренности и напыщенности, вместе с тем органично заимствовал народный говор, избегая искуса нарочитой простонародности. Способствовал этому универсум языкового сознания Пушкина, который блестяще владел французским (его первый разговорный язык) и был знатоком европейских литератур. Язык Пушкина – современный русский язык – несёт на себе печать пушкинского гения, в котором глубина и многообразность содержания выражается грациозной лапидарностью форм.
После Пушкина чародей литературного языка Гоголь мог говорить: «Как чудесен, как богат русский язык! Каждый звук как подарок, всё… имеет форму, как жемчуг, и воистину каждое слово столь ценно, как сама обозначаемая вещь… Язык наш как бы создан для искусного чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи… Сам необыкновенный язык наш есть ещё тайна. В нём все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны – выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, – язык, который сам по себе уже поэт».
О послепушкинском совершенстве нашего родного языка замечательно сказал Иван Ильин: «Кто хочет научиться хорошо говорить по-русски, должен, прежде всего, расслабиться, освободиться от телесной и душевной скованности… и совсем легко и непринужденно приступить к делу. Затем он должен прислушаться к требованиям естественного удобства, органической свободы и мелодичного благозвучия изнутри, дать возможность каждому слову произноситься и жить уютно, достойно, выразительно, со вкусом. Русский язык, подобно итальянскому, избегает всего, что звучит жёстко, грубо, скрипуче или шепеляво. Примечательно, к примеру, что русский слух воспринимает с известной долей ужаса кое-что в языках западных славян; такие слова, которые состоят из звонких согласных и потому не дают и малейшей возможности для мелодичного тона: такое “гетто согласных”… в русском языке просто невозможно. Русский язык хочет звучать и петь, быть естественным и выразительным, наслаждаться означаемым предметом, придавать ему фонетическую ценность и тем самым процветать самому. Он живёт и раскрывается благодаря созерцающему вчувствованию. Он шумит вместе с лесом и шепчет с камышом, сверкает с молнией и рокочет с громом, щебечет с птицами и плещется с волною; он весьма глубок в чувствах и проникновенен в мыслях. И при этом он остаётся гибким по форме, многообразным в ритме и послушным в стиле».
Дух народа запечатлен в его языке, Пушкин, создавая современный русский язык, филигранил русский дух. «Язык народа есть как бы художественная риза его души и его духа. Посмотрите: гибкая народная душа – родит гибкий язык; легкая народная душа – поет и пляшет в словах; тяжелая душа народа – скрипит, громоздит и спотыкается. Легкомысленный народ – лепечет, замкнутый народ цедит слова сквозь преграду губ и зубов; даровитый народ подражает звукам внешнего мира. Язык прозаического народа – скуден и ясен, язык поэтического народа – звонок и певуч. Здесь всё имеет своё душевное и духовное значение: и гортанность, и обилие дифтонгов, и ударение на последнем слоге, и склонность передвигать ударение к началу, и неартикулированность согласных, и обилие омонимов, и орфография – эта писаная риза языка, эта запись звуковых одежд духа человеческого и характерное для языка стихосложение. Каждый язык ничей, и всенародный, и общий. Это способ народа выговаривать, выпевать свою душу; это соборное орудие национальной культуры; это верное одеяние самой родины. Или ещё лучше: это сама родина в её звуковом, словесном, пропетом и записанном закреплении. Вот почему жить в родном языке – значит жить самою родиною, как бы купаться в её морях, дышать воздухом её духа и культуры; общаться с нею непосредственно и подлинно» (И.А. Ильин).
Литературный гений Пушкина умножил литературные темы, настроил тонкую языковую лиру. Русская поэзия «творится в той беззаветной искренности, в той легкой свободе, в той играющей и поющей естественности, которая присуща русскому языку как бы от природы и которой нас навсегда научил дивный Пушкин» (И.А. Ильин). С Пушкина зачинается великая русская классическая литература. «Не было бы Пушкина, не было бы последовавших за ним талантов. По крайней мере, не проявились бы они в такой силе и с такой ясностью, несмотря даже на великие их дарования, в какой удалось им выразиться впоследствии, уже в наши дни» (Ф.М. Достоевский). Святой и гений являются духовной сокровищницей России, не вполне востребованной и до сего дня. Русская классическая литература, начавшись с Пушкина, ещё не вполне приобщилась к богатствам его необъятного духа. «Русская литература до сих пор недостаточно усвоила Пушкина – и предложенную им широту (столько уклоняясь за Радищевым к мортирным сатирам на социальные язвы), и его легкосхватчивый попутный скользящий беззлобный юмор, отозвавшийся заметнее всего в Булгакове. Ещё и с рождением народной трагедии – сочетание свойств, о котором не скажешь, что оно потом легко повторялось в нашей или другой литературе. Пушкину у нас оказались верны не столько имена первого ряда» (А.И. Солженицын).
Пушкин поражал своих современников блистательным и глубоким умом. Жуковский признался однажды Гоголю: «Когда Пушкину было 18 лет, он думал как тридцатилетний человек, ум его созрел гораздо раньше, чем характер». Император Николай I после первой встречи с Пушкиным в 1826 году заметил графу Блудову: «Знаешь, я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России». Одна из хорошо знавших его современниц писала: «Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли». Иван Ильин писал о метафизической углублённости Пушкина: «Ум Пушкина был не только жив, гибок, тонок и ясен. Ему было свойственно видеть во всём Главное, душу людей и вещей, сокровенный смысл событий, тот великий и таинственный “предметный хребет” мира и человечества, на котором почиет Свет Божий и вокруг которого всё остальное располагается как проявление, последствие или добавление… Его ум был ясновидящ для существенного, прозорлив для субстанциального, верен Божественному Главному. Такова же была и его память, удерживавшая всё необходимое, верное, вечное». Это ум человека, обладающего даром творческого созерцания.
Поражает вселенский универсализм Пушкина. «В одной из статей (“Денница”, 1830) Пушкин дал своеобразное определение самому себе: “поэт действительности”. Может показаться, что в этом определении нет ничего характерного, отличительного: ведь и другие писатели изображают действительность. Изображают, конечно, но не в пушкинском смысле. Каждый писатель разрабатывает свой, особый пласт действительности. Уникальность же Пушкина состоит в том, что он стал поэтом всей действительности» (Г.А. Анищенко). Об этом писал Гоголь в «Выбранных местах...»: «Что было предметом его поэзии? Всё стало предметом, и ничего в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов… На всё, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней».
О способности Пушкина «всё сказать, всё показываемое видеть, осветляя его», пишет А.И. Солженицын: «Всем событиям, лицам и чувствам, и особенно боли, скорби, сообщая и свет внутренний, и свет осеняющий, – и читатель возвышается до ощущения того, что глубже и выше этих событий, этих лиц, этих чувств – нет. Емкость его мироощущения, гармоничная цельность, в которой уравновешены все стороны бытия: через изведанные им, ощущаемые толщи мирового трагизма – всплытие в слой покоя, примиренности и света. Горе и горечь осветляются высшим пониманием, печаль смягчена примирением… Пушкин принимает действительность именно всю и именно такою, как её создал Бог. У него нет “онтологического пессимизма, онтологической хулы на мир”, но хвала ему; и “русская литература в целом была христианской в ту меру, в какой она оставалась, по последней своей глубине, верной Пушкину” (прот. Александр Шмеман). “Самый гармоничный дух, выдвинутый русской культурой… Воплощение меры и мерность… До конца прозрачная ясность…” (П. Струве). Все противоречия у него разрешаются в жизнеутверждающем созвучии, в светлом аккорде. Вот этим оздоровляющим жизнечувствием Пушкин и превозвысил надолго вперёд и русскую литературу уже двух веков, и сегодняшнюю смятенную, издерганную западную».
Это не возрожденческое качество, а христианское приятие миротворения. Оттого Пушкин «предстает одновременно самым страстным (его ещё при жизни называли “действующим вулканом”) и по форме самым уравновешенным поэтом Востока. Тем самым он показал своему народу, что национальная мощь и страсть поддаются форме, что в очевидном хаосе его душевной стихии дремлют совершенный порядок и гармония, которые способны прояснить молитвенную страсть и сотворить чудо. А между тем во всём, что сделал и что показал Пушкин, он руководствовался древней и прекрасной традицией православной Церкви» (И.А. Ильин). Радовались жизни святой и поэт не из-за удовлетворения земной обыденностью, – они, как никто, ощущали трагичность мироздания и реальность зла. Но в тёмном царстве они видели Божественный свет и умели радоваться преобразовательной миссии, дарованной Богом человеку. Схожи великие души и своими светлыми обликами. Преподобный Серафим встречал каждого с лучезарной улыбкой, приглашая разделить с ним радость богообщения. Святой – своей жизнью, поэт – своим творчеством вносили в мир светлые идеалы красоты, милосердия, доброделания.
Христианская любовь, открытость души проявились в верной, трогательной дружбе и в удивительной чуткости Пушкина к таланту других. Об этом писал протоиерей Сергий Булгаков: «Пушкину от природы, быть может, как печать гения, дано было исключительное личное благородство. Прежде всего и больше всего оно выражается в его способности к верной и бескорыстной дружбе: он был окружен друзьями в юности и до смерти, причём и сам он сохранял верность дружбе через всю жизнь… В его дружеский список… вошли все его великие и значительные современники». Один из современников Пушкина свидетельствует: «Я не встречал людей, которые были бы вообще так любимы, как Пушкин: все приятели его скоро делались его друзьями». Но, более того, «эта способность к дружбе стоит в связи с другой его – и надо сказать – ещё более редкой чертой: он был исполнен благоволения и сочувственной радости не только лично к друзьям, но и к их творчеству… Отношение Пушкина к современным писателям озарено сиянием этого благоволения: кого только из своих современников он не благословил к творчеству, не возлюбил, не оценил!» (прот. Сергий Булгаков). Во всякой искренней творческой попытке он умел увидеть значительное. Ему было дело до всех человеческих проблем: от высочайших духовных до обыденных. О себе он мог сказать: «Я преисполнен добродушием до глупости». Даже литературный гонитель Пушкина Фаддей Булгарин, несмотря на едкие пушкинские эпиграммы, вынужден был признать: «Скромен в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе». Близкий друг Пушкина Дельвиг писал к нему в ссылку: «Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шёл, т. е. делай, что хочешь; но не сердись на меры людей и без тебя довольно напуганных!.. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, Бога ради! Употреби получше время твоего изгнания». Иван Ильин, имея в виду непосредственный, открытый характер поэта, называл его «гениальным ребёнком», «шаловливым мудрецом».
Жизнь гения в мире, в котором царят обыденность и пошлость, не могла не быть преисполненной драматизма: «Он всю жизнь шёл среди людей, видя их насквозь и безошибочно и целомудренно укрывая от них свою впечатлительную, глубокую и вдохновенную душу, – зная заранее, что они не поймут его, и находя всюду подтверждение этому. А из них многие завистливо и уязвлённо не прощали ему его таланта, его ума и его острого и меткого языка» (И.А. Ильин).
Вольный поэт был мудрым и ответственным гражданином, понимая, что творческая свобода неотделима от ответственности: «Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом» (А.С. Пушкин). Чеканная формула гражданского служения литератора звучит сегодня необыкновенно актуально.
Вопреки модным веяниям, зрелый Пушкин был патриотом-государственником, ибо осознавал сакральную ценность власти и опасность социальных потрясений. «Общим фундаментом политического мировоззрения Пушкина было национально-патриотическое умонастроение, оформленное как государственное сознание… По общему своему характеру политическое мировоззрение Пушкина есть консерватизм, сочетающийся, однако, с напряженным требованием свободного культурного развития, обеспеченного правопорядка и независимости личности, – то есть в этом смысле проникнутый либеральными началами… Пушкин защищает точку зрения истинного консерватизма, основанного на преемственности культуры и духовной независимости личности и общества, против опасности цезаристски-демократического деспотизма… “Монархия – сословное государство – свобода – консерватизм” выступают у него как единство, стоящее в резкой противоположности к комплексу “демократия” – радикализм (“якобинство”) – цезаристский деспотизм» (С.Л. Франк). Поэт был пророком органичной российской государственности.
Публицистической деятельностью в своём журнале «Современник» «Пушкин ставил себе целью, с одной стороны, всестороннее воспитание и образование русской читающей публики в духе тех взглядов, которые были им выработаны в течение всей жизни. Он хотел предостеречь молодежь от тех бесплодных заблуждений мысли, чувств и поведения, через которые ему самому пришлось пройти, и открыть ей, таким образом, широкую дорогу для творческой работы… С другой стороны, Пушкин считал своим долгом показать пример положительного миросозерцания, дать практические предложения для разрешения ряда жизненных вопросов. Он никогда не забывал о главном: что всякий писатель должен работать не только над своим образованием, но, прежде всего, над своим духовным воспитанием» (Б.А. Васильев).
Считая литературу духовным служением, Пушкин беспокоится о том, «дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; с другой – чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой и преступной… Для удовлетворения публики, всегда требующей новизны и сильных впечатлений, многие писатели обратились к изображениям отвратительным, мало заботясь об изящном, об истине, о собственном убеждении». Пушкин убеждён – литератор ответствен перед Богом и людьми за то, благотворно или разрушительно влияние его произведений: «Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не могут устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда».
Патриотическое чувство не ограничивало свободы поэтического гения Пушкина. «У Пушкина размышления о России носят столь же личный характер, как и размышления о себе самом, они становятся поэтическим средством, эпическим возвышением. Но гражданин не опровергает поэта. Стоит перечитать одно из последних писем Пушкина, адресованное Чаадаеву 19 октября 1836 года. На самое радикальное из когда-либо высказанных отрицаний России Пушкин, новый Пимен, отвечает её полным приятием, не исключающим, однако, и грусти. Вновь звучит песнь любви. Он приемлет и русское Православие, и просветителей. Он ничего не вычеркивает из русской истории, ни Византии, ни татар, ни Москвы, ни Петербурга. Оба Ивана, как и Пётр Великий, допущены в Пантеон, а за ними и Екатерина и даже Николай I. Пушкин смеет любить Европу и критиковать Россию. Он и славянофил, и западник. Это значит, что он свободен» (Ален Безансон).
Обвиняя Пушкина в атеизме, ссылаются на «Гаврилиаду» и другие ранние произведения, в которых религиозная тема интерпретируется с юношеским озорством. По этой логике в истории Церкви не может быть святых праведников, многие из которых в молодые годы вели далеко не безупречный образ жизни. Посвятивший себя духовной жизни, принимающий монашеский постриг меняет имя, становясь другим человеком. Пушкин в молодости, как дитя своего века, пережил соблазны французского просветительства: эпикуреизм, вольтерьянство, религиозное безверие. Но духовная цельность позволила ему освободиться от налета духовного нигилизма и восстановить связь с родной культурой. В заметке «Последний из свойственников Иоанны д’Арк» Пушкин не только публично осудил «Орлеанскую девственницу» Вольтера, но, по существу, принёс покаяние в собственном грехе молодости – создании «Гаврилиады», а также в соблазне, который он распространял кощунственной поэмой. «Всё бремя нашего существования, все страдания и трудности нашего прошлого, все наши страсти – всё принято Пушкиным, умудрено, очищено и прощено в глаголах законченной солнечной мудрости. Всё смутное прояснилось. Все страдания осветились изнутри светом грядущей победы. Оформились, не умаляясь, наши просторы; и дивными цветами зацвели горизонты нашего духа. Всё нашло себе лёгкие законы неощутимо легкой меры. И самое безумие явилось нам в образе прозрения и вещающей мудрости. Взоры русской души обратились не к больным и бесплодным запутанностям, таящим соблазн и гибель, а в глубины солнечных пространств. И дивное глубокочувствие и ясномыслие сочеталось с поющей и играющей формой» (И.А. Ильин).
Творчество и жизнь Пушкина выявляют глубинную христианскую ориентацию русской культуры, религиозный долг культурного творчества: «веленью Божию, о муза, будь послушна», «внемлет арфе серафима в священном ужасе поэт». Поэтическое слово – это «божественное орудие», «хвалебный гимн Отцу миров». Поэт-творец призван Богом к пророческому служению: «Глаголом жги сердца людей». Образ христианского подвижника не случаен у Пушкина: Пимен в «Борисе Годунове», смиренный, величавый летописец, запечатлевающий земли родной минувшую судьбу, – это и сам автор, ибо назначение поэта – выражать духовную судьбу своего народа. Через молитву преподобного Ефрема Сирина, переложенную на язык поэзии в «Отцах пустынниках», Пушкин сближает свою судьбу с судьбой христианского святого. Близок к этому и ответ митрополиту Филарету «В часы забав и праздной скуки», где Пушкин живо отозвался на стихотворение митрополита по поводу стихов поэта «Дар напрасный, дар случайный…» и где возникает образ священнослужителя, влияющего на жизнь поэта.
Глеб Анищенко показывает, как в нескольких религиозных стихах отражен драматический духовный путь Пушкина: «Поэт воспринял послание владыки как перст Господень, указующий на то, что пророк забыл “Бога глас” и вновь попал в “пустыню мрачную”. Если в “Пророке” посредником между человеком и Богом выступал Ангел, то теперь Пушкин такого посредника увидел в земном человеке – церковном иерархе. Но вовсе не к нему обращает поэт своё стихотворение, а к Тому, Кто его послал… Стихотворение Пушкина – это не согласие либо спор с тем, что писал митрополит. Это – раскаяние в том, что писал сам поэт».
Стихотворение «Странник» «впитывает в себя практически все важнейшие мотивы религиозно-философской лирики поэта, предлагая чисто религиозный выход из замкнутого круга прежних размышлений о смертности человека… Идейно-сюжетная схема “Пророка”, “В часы забав…”, “Странника” состоит в том, что падшему человеку через посланника даруется помощь Бога, которая укрепляет его силы и выводит из мрака… “Отцы пустынники…” включают в себя практически все ключевые пункты стихотворной переписки Пушкина и митрополита Филарета. То, что было найдено и осознано поэтом тогда, теперь совершенно естественным образом смогло уместиться в каноническую молитву. Тема преодоления мрака земной жизни, оживления сердца, воскрешения падшего человека, нашла в творчестве Пушкина не просто религиозное, но и церковно-православное разрешение» (Г.А. Анищенко).
«Я нашёл Бога в своей совести и в природе, которая говорила мне о Нём», – сказал Пушкин А.И. Тургеневу. «Личный и духовный путь его не прост и драматичен на протяжении почти всей жизни… но ведь подлинно христианский путь редко бывает прост и легок, и во Враче имеют нужду не здоровые, а больные (Лк 5:31). Личный путь Пушкина был не прост как раз потому, что он чувствовал и сознавал свой гений, свой творческий дар как не свою ношу, – а на это не каждый художник способен. Пушкину было дано чувствовать и мыслить по-христиански, было дано “благое иго” (Мф 11:30)» (В.С. Непомнящий).
Зрелый Пушкин вполне сознаёт своё место и роль поэта – пророка, миссионера христианства. Он писал в отзыве на «Историю русского народа» Н. Полевого: «Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы». Занимаясь историческими изысканиями, поэт приходит к непреложному выводу: «Греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, даёт нам особенный национальный характер. В России влияние духовенства столь же благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических… Огражденное святой религией, оно было всегда посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей историей, следовательно просвещением». Безусловно, «Пушкин, как историк, как поэт и писатель, и, наконец – что есть, может быть, самое важное и интимное – в своей семье, конечно, являет собой образ верующего христианина. Могло ли быть иначе для того, кто способен был прозирать глубину вещей, постигать действительность?» (прот. Сергий Булгаков).
«Бесспорно, что Пушкин пришёл собственной дорогой к живой вере. Переломным годом был 1828-й, а начиная с 1830-го творчество и письма поэта свидетельствуют, что основные вопросы миросозерцания были им решены. Он встал на камень веры и не мыслил творчества вне христианства» (Б.А. Васильев). Отныне поэт судит обо всем перед лицом Вечной Истины: «Ничего не может быть противуположнее поэзии, как та философия, которой XVIII в. дал своё имя. Она была направлена противу господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов». Бытие Божие открывается верой, но с неизбежностью утверждается и последовательным разумом: «Не допускать существования Бога – значит быть ещё более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге» (А.С. Пушкин).
Гений русской святости и гений русского творчества обладали уникальной внутренней независимостью, цельностью характера и свободой, что безмерно расширило поле свободы и ответственности русского духа. Они привнесли в мир новый образ жизни и новый образ творчества, которые верны своему небесному назначению. Они явили новые откровения персоналистичности бытия. И святой, и поэт были яркими личностями – самыми ответственными и внутренне свободными людьми в тогдашнем мире. Жизнь и творчество Пушкина посвящены утверждению свободы личности – Божественного образа в человеке.
Творчество Поэта направлено на раскрытие истоков человеческой личности – отечества небесного и отечества земного. «“Любовь к родному пе-пелищу, любовь к отеческим гробам” возводятся в ранг наиважнейших бытийных категорий. Эти два чувства основываются не на людском произволе, а на воле Бога и именно поэтому дают человеку “величие”:
На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека –
Залог величия его.
Для характеристики человека, обретшего это “величие”, Пушкин создает гениальный неологизм “само-стоянье”, не имеющее синонимов в русском языке. Речь идёт не о самостоятельности, независимости, с одной стороны, но и не о рабской покорности – с другой. Пушкинское “самостоянье” есть исполненность человека волей Бога (о чём говорилось и в “Пророке”) и обретенная благодаря этому полноценность бытия. Воля Бога указывает ориентиры на земле. В данном случае ими являются “любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу” (Г.А. Анищенко).
Обретение самостоянья наделяет человека сопричастностью и к прошлому, и к будущему своего народа: «Освобождение от порабощающего, ежеминутного осознания собственной смертности и порожденного им ощущения своей отделённости ото всего сущего Пушкин находит в другом ощущении: сопричастности человека своим предкам и месту, где они обитали – родине. С этого момента личность в пушкинском творчестве осознает себя не одинокой точкой в мировом пространстве, а средним звеном, связующим предков и потомков» (Г.А. Анищенко).
Высокое историческое умозрение у Пушкина неотделимо от вдохновения религиозного и поэтического. Пушкин пробуждает в русском сердце духовные основы патриотизма. Митрополит Анастасий (Грибановский) раскрывает тематику пушкинского патриотизма: «Самому чувству патриотизма, имеющему общечеловеческий характер, он даёт не столько психологическое, сколько религиозное обоснование… Национальное бытие каждого народа, основанное на живой органической связи его настоящего с его историческим прошлым, не есть только просто факт истории: это Закон Божий, воплощенный в общественной жизни человека».
Пушкин всецело осознал свою историческую творческую миссию и своё место в современности, понимая, что его поэтическое пророчество и жизненная позиция обречены на хулу и клевету со стороны «глупцов» и «черни тупой». Он отвергает суд мирской во имя Божьего суда: «Веленью Божию, о муза, будь послушна…». Многие его творческие образы и смыслы остались непонятыми современниками и обращены скорее к будущим поколениям.
О смысле итогового стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» пишет Глеб Анищенко: «Добро, свобода, милость для позднего Пушкина не разные понятия, а три составные единого духовного ядра. Каждую из этих составных можно определить через две других. “Чувства добрые” есть стремление личности к свободе в сочетании с милосердием по отношению к людям. Милость есть свобода добрых чувств… “Чувства добрые” и “милость” не разъединяются в пушкинской строфе, а образуют своего рода кольцо вокруг центрального понятия “свобода”. Свободу же поздний Пушкин понимает как свободу добра и милости, то есть как свободу христианскую, духовную… Внутренняя свобода органично сочетается у позднего Пушкина с подчинением себя Божьей воле… Таким образом, итоговое стихотворение Пушкина – не манифест, не ода, а глубокое размышление о сложнейших взаимоотношениях: Бог – пророк – поэт – народ – чернь».
Георгий Федотов итожит тему свободы у поэта: «Во всех, не очень частых высказываниях Пушкина, в которых можно видеть отражение его религиозных настроений, они всегда связаны с ощущением свободы. В этом самое сильное свидетельство о свободе как метафизической основе его жизни. Религия предстоит ему не в образе морального закона, не в зовах таинственного мира, и не в эросе сверхземной любви, а в чаянии последнего освобождения».
Определяющим в зрелом творчестве Пушкина были конкретный историзм, почвенность, религиозная углубленность. Душа его вернулась на духовную родину. В лице поэта культура образованных слоёв возвращается к духовной традиции. Национальное самосознание России в полной мере возрождается с Пушкина. «Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению тёмной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание» (Ф.М. Достоевский). Через истинно православную святость и подлинно русское творческое вдохновение осуществляются поиск и осмысление миссии России, её места и роли в Православии, христианстве, мировой истории. Духовное преображение гения Пушкина явило просветление национального духа, в его лице русская культура возвращалась к самой себе, к своим подлинным основам и истокам: «В нём русский дух впервые осознал и постиг себя, явив себя и своим, и чужим духовным очам; здесь он впервые утвердил своё естество, свой уклад и своё призвание; здесь он нашёл свой путь к самоодолению и самопросветлению. Здесь русское древнее язычество (миф) и русская светская культура (поэзия) встретились с благодатным дыханием русского православия (молитва) и научились у него трезвению и мудрости. Ибо Пушкин не почерпнул очевидность в вере, но пришел к вере через очевидность вдохновенного созерцания. И древнее освятилось, и светское умудрилось. И русский дух познал радость исцелённости и радость цельности. И русский пророк совершил своё великое дело» (И.А. Ильин).
Поэт первым явственно утвердил в литературе русскую тему. «Пушкин нашёл свои идеалы в русской земле, воспринял и возлюбил их всецело своею любящею и прозорливой душой… В Пушкине есть именно что-то сроднившееся с народом взаправду, доходящее в нём почти до умиления… И никогда ещё ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин… Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда на русского человека» (Ф.М. Достоевский). Соприродность русскому духу позволила культурнейшему человеку стать выразителем общенационального характера. «Пушкин явился вольным народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути» (Ф.М. Достоевский).
Пушкин и в этом был одинок. «Сам Карамзин, в образованности и просвещённости которого мы не имеем оснований сомневаться, посетив собор Новгорода и осмотрев фрески XI в., назвал их “варварской живописью”. Стоит ли удивляться, что спустя какое-то время они были безжалостно сбиты и заменены убогими масляными росписями? Без оглядки на эту атрофию национального чувства нельзя понять и величие Пушкина, который сначала посмел из француза стать русским, а затем и православным» (А.В. Лаушкин).
После Пушкина русская литература приобретает христианское измерение. Но христианизация культуры не смогла преодолеть инерции секулярности образованных сословий. «Если мы захотим определить меру этого ведения, жизни в Боге у Пушкина, то мы не можем не сказать, что личная его церковность не была достаточно серьезна и ответственна, вернее, она всё-таки оставалась барски-поверхностной, с неопределенным язычеством сословия и эпохи» (прот. Сергий Булгаков). Очевидно, поэтому Пушкин не заметил явления возрождающейся Оптиной пустыни, не знал о святителе Тихоне Задонском и, главное, не знал своего великого современника – преподобного Серафима. Два солнца России так и не встретились, ибо не был преодолен раскол в душе России.
Загадочная сверхгениальность Пушкина – явление общенационального и мирового масштаба. Это возрастание личного духа до вершин соборности. Гоголь при жизни Пушкина, разгадав тайну великой личности, провозгласил: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Неповторимая, страстно увлекающаяся пушкинская натура проживала не только судьбу индивидуальную, но и сверхличную, общерусскую. «Пушкин таинственно стал альтер эго России – её другим “я”. Россия стала неотделима от Пушкина, он от неё. Лицо и сердце России стали “пушкинскими”, ибо тайна “явления” Пушкина и заключена в том, что великий Пушкин есть личное воплощение величия души России» (А.В. Карташёв). Судьба Пушкина включала в себя судьбу России. «В нём – самооткровение русского народа и русского гения. Он есть в нас мы сами, себе открывающиеся. В нём говорит нам русская душа, русская природа, русская история, русское творчество, сама любовь и наша радость… Пушкин и есть для нас в каком-то смысле Родина, с её неисследимой глубиной и неразгаданной тайной, и не только поэзия Пушкина, но и сам поэт. Пушкин – чудесное явление России, её как бы апофеоз» (прот. Сергий Булгаков).
В творческих муках Пушкина сосредоточивалось русское самосознание, Россия искала свой путь. «Когда этот умнейший и сверходарённейший сын России отразил в своём волхвующем слове русскую жизнь – природу, историю, душу, и жизнь всемирную, произошло нечто сверхлитературное, свершилось некое событие, неложное достижение в истории русской культуры. Она взошла на общечеловеческую высоту, достигла классического равновесия, стала всемирной. Россия увидела своё прекрасное, идеальное величие в зеркале Пушкина. И признала, что сверхчеловеческое слово Пушкина есть слово о себе самой. Русское великодержавие и мировое культурное самосознание и призвание кристаллизовались. Начиная от Пушкина, мы не иначе можем мыслить себя, как только великой мировой нацией» (А.В. Карташев).
Какую истину о русской душе Пушкин поведал миру или что его устами Россия высказала о самой себе? Об этом говорил Достоевский в знаменитой Пушкинской речи. Достоевский обратил внимание на то, что творчество Пушкина является актом русского национального самосознания: «Не было бы Пушкина, не определились бы, может, с такой непоколебимою силой… наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов».
Достоевский даёт классическое определение русской духовности, явленной в Пушкине: «Не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине её, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов… Тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своём развитии, народность нашего будущего, таящаяся уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление её в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уж и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк… Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, до самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми письменами… Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите… наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей… ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина». Подлинный подвиг Пушкина Достоевский видит в том, что в его поэзии «засияли идеи всемирные».
От Пушкина Достоевский перенял русскую всемирную отзывчивость – переживание общехристианских и общечеловеческих проблем, совместное крестонесение трагичности бытия: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия».
Не следует однозначно интерпретировать всечеловечность пушкинского творчества. «Титул “всечеловечности”, которым романист награждает поэта, может показаться преувеличением, поскольку Англии не найти в “Пире во время чумы”, равно как и Испании в “Дон Жуане”. Это звание, по-моему, следует воспринимать как “всерусскость”. Пушкин, как Эол, владеет всеми ветрами, дующими от него во все стороны. Однако, учитывая время, когда была произнесена речь, и то, что Достоевский изгнал своих бесов, “всерусскость” следует понимать как равнозначное “всечеловечности”, в том смысле, что человек или страна, внутренне примиренная, вмещает в себя приемлемую картину всего мира» (Ален Безансон).
И.А. Ильин в полемике с Ф.М. Достоевским утверждал, что Пушкин не столько являл всемирную отзывчивость русского народа, сколько выражал русское духовное призвание и историческое назначение. Суждения великих умов не исключают, а дополняют друг друга. Иван Ильин убеждён, что Пушкин «был русским не потому, что отличался “всемирной отзывчивостью” и способностью “почти совершенного перевоплощения в чужую национальность”; он был русским не потому, что “русскость” сводится ко “всечеловечности”, “всеединению” и “всепримирению”, как полагал Достоевский. Нет, русской душе открыты не только души других народов, но и ещё всё то, что открыто и другим народам: и сверхчеловеческий мир божественных обстояний, и ещё нечеловеческий мир природных тайн, и человеческий мир родного народа. И русский народ призван в своей духовной жизни не к вечному перевоплощению в чужую национальность, не к примирению чужих противоречий, не к целению европейской тоски и пустоты, а к самостоятельному созерцанию и положительному творчеству. Русский человек, русский народ, русский гений имеют сказать в истории мировой культуры своё самобытное слово, не подражательное и не заимствованное. Настоящий русский есть, прежде всего, русский в смысле содержательной, качественной, субстанциональной русскости, и лишь в эту меру и после этого он может стать и быть братом других народов. И никогда наши великие сами не ходили и нас не водили побираться под европейскими окнами, выпрашивая себе на духовную бедность крохи со стола богатых. Утверждая русскость Пушкина, я имею в виду не гениальную обращенность его к другим народам, а чудеснейшее, целостное и победное цветение содержательной и субстанциональной русскости в нём. Россия стояла на великом историческом распутии, загроможденная нерешенными задачами и ни к чему внутренне не готовая, когда ей был послан прозорливый и свершающий гений Пушкина для того, чтобы оформить, прекрасно оформить душу русского человека, а вместе с тем и Россию. Русский мир в его целом и великом измерении (макрокосм) должен был найти себе в лице Пушкина некий гениальный микрокосм, которому надлежало всё принять, всё величие, все силы и богатства русской души, её дары и её таланты, и в то же время – все её соблазны и опасности, всю необузданность её темперамента, все исторически возникшие недостатки и заблуждения; и всё это пережечь, перекалить, переплавить в огне гениального вдохновения и показать русскому человеку, к чему он призван, какие глубины и высоты зовут его, какою духовною мудростью и художественною красотою он повинен Господу Богу, себе и другим народам». Всё-таки русской субстанции свойственна и всемирность, ибо русский народ, осуществляя своё национальное, безусловно, выражает общечеловеческие призвания и формирует всемирные идеалы.
Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин был создателем современного русского языка, русской художественной прозы и драматургии, задавал многие темы русской культуры и жизни. Но Пушкин наше всё прежде всего в том смысле, что «творчество Пушкина есть сконцентрированный путь духовного, нравственного, культурного, эстетического развития человека. Идеальный путь в отнюдь не идеальных земных условиях. Не наше дело подражать Пушкину, наше дело – о нём знать, видеть то направление развития, которое он обнаружил. Именно этим знанием и существовала русская культура на протяжении двух последних веков. Это знание всегда пульсировало в артериях любого питомца нашей культуры» (Г.А. Анищенко).
Новые образы и смыслы порождались не только гениальным умом и бездонным поэтическим воображением Пушкина. Пушкинское творчество всеобъемлюще экзистенциально, оно выражает его человеческую судьбу и судьбу его духа, даёт ответы на эпохальные вызовы. «В ситуации всемирного тупика и пришел в мир Пушкин. После атеистического, разложившего все основы христианского человечества восемнадцатого века, закончившегося Французской революцией и явлением “сверхчеловека” Наполеона, “в глухой темноте текли люди”. Из этой темноты и предстояло выкарабкиваться. Оттуда и начал свой путь Пушкин-поэт… Пушкину свет не был дан изначально, он был закрыт “слепым туманом”. Поэту был дан только талант и с помощью этого таланта – возможность отыскать свет. Весь гений Пушкина состоит в том, что он данную возможность полностью использовал. Но для этого потребовалось пройти “непроходимыми захолустьями” человечества, двигаться за “болотными огнями” эпохи, чтобы увидеть разверзшуюся пропасть и дать ответ на вопрос “где выход, где дорога?” Пушкин был вынужден сам на себе испытать “яд” искушений Робеспьера и Наполеона, Петра Первого и Пестеля, Вольтера, Байрона, Парни и Баркова. Творчество Пушкина не исцелило, конечно, ни человечество, ни Россию. И не спасло. Земных “спасителей” было достаточно и до Пушкина, и после него. Пушкин всего лишь показал, что даже тогда, когда для людей закрыт прямой путь, ведущий “к великолепной храмине”, человек силой своей творческой воли может выйти на спасительное “перепутье”, услышать “Бога глас” и последовать призыву “Держись сего ты света”. Творчество Пушкина – это путь, уникальный образец пути от тьмы к свету» (Г.А. Анищенко).
Достижения Пушкина возрождали русскую культуру, в чём и заключался переворот духа, духовная революция. «С тех пор в России есть спасительная традиция Пушкина: что пребывает в ней, то ко благу России; что не вмещается в ней, то соблазн и опасность. Ибо Пушкин учил Россию видеть Бога и этим видением утверждать и укреплять свои сокровенные, от Господа данные национально-духовные силы. Из его уст раздался и был пропет Богу от лица России гимн радости сквозь все страдания, гимн очевидности сквозь все пугающие земные страхи, гимн победы над хаосом, впервые от лица России и к России была сказана эта чистая и могучая “осанна”, осанна искреннего, русским православием вскормленного мироприятия и Богоблагословения, осанна поэта и пророка, мудреца и ребенка… Пушкин, наш шестикрылый серафим, отверзший наши зеницы и открывший нам и горнее, и подводное естество мира, вложивший нам в уста жало мудрыя змеи и завещавший нам превратить наше трепетное и неуравновешенное сердце в огненный угль, – он дал нам залог и удостоверение нашего национального величия, он дал нам осязать блаженство завершенной формы, её власть, её зиждущую силу, её спасительность. Он дал нам возможность, и основание, и право верить в призвание и в творческую силу нашей родины, благословлять её на всех её путях и прозревать её светлое будущее, какие бы ещё страдания, лишения или унижения ни выпали на долю русского народа. Ибо иметь такого поэта и пророка – значит иметь свыше великую милость и великое обетование… Его звание состояло в том, чтобы духовно наполнить и оформить простор русской души, ту душевную свободу, которая дана нам от Бога, от славянства и от нашей природы, – наполнить её по-русски увиденными духовными содержаниями, заселить её священными обстояниями нашей русской души, нашей русской судьбы и истории. Его звание состояло в том, чтобы пророчески указать русскому народу его духовную цель: жить во всём самобытном многогласии своем, с глубочайшей цельностью и искренностью, божественными содержаниями, в совершенной форме» (И.А. Ильин). Слова русского философа являют русский идеал, который в своей духовной высоте сверхнационален, сверхчеловечен. В поиске сверхсущего всеобщего идеала и состоит русское призвание.
Творчество гения не вмещается в его эмпирическую биографию. Духовная биография творца надмирно единит его с творцами других эпох, он входит в духовную эстафету творческого преображения жизни. Духовное значение Пушкина в культуре и истории России в том, что он подвигнул образованное общество обратиться к традиционным духовным ценностям, сформулировал проблемы бытия, задал идеалы русской цивилизации, первым обнаружил новые духи небытия, ополчающиеся на Россию.
Силы русской духовной революции оказались изначально разделенными: гениальность – от святости, гений – от образованного общества, святой – от церковной общественности. Преображающие духовные тенденции не слились и не смогли органично влиться в русскую цивилизацию. Новому духу не удалось оказать существенное влияние на жизнь в социальном плане. Просветляющие идеалы мало входили в жизнь. В этом сказалось общечеловеческое расщепление духовной культуры и жизни, святости творчества и святости жизни.
Во многом ни преподобного Серафима, ни Пушкина современники не поняли. Духовный подвиг преподобного Серафима остался скрытым для официальной церковной жизни, а Пушкина быстро исказили, – каждая идейная группа приспосабливала великого поэта к собственным нуждам. Но в народном восприятии они были безусловным авторитетом. Стихийное всенародное почитание угодника Божьего беспрецедентно, так же как и всенародная популярность Пушкина. Народ, не поняв их, вполне почувствовал родной дух и в поэте, и в святом, выражающих русскую традицию. Пушкин и преподобный Серафим отвечали внутреннему идеалу народного благочестия и творили этот идеал. Вспышка духовного света запечатлелась в русской душе. После них на глубине русского духа что-то принципиально изменилось. И до сего дня эта духовная сила питает русскую жизнь, и светскую, и церковную.
Россия, в силу унаследованного раскола в национальной душе, не смогла вместить явление духа во всей его полноте. Цельный дух преподобного Серафима и Пушкина отразился в русской культуре частично. Новый духовный идеал расслаивался и вливался в жизнь по секуляризованным каналам культуры. Многое не сразу было услышано и не понято, не оценено до сих пор. Духовная революция в России состоялась как факт духовно-персоналистический и не смогла определить судьбу народа – прежде всего потому, что на чудесное явление русского духа ополчились враждебные внутренние и внешние силы, все наследованные и занесенные болезни.