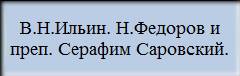|
||||||||
|
Николай Федоров и преп. Серафим Саровский. В.Н.Ильин.
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Владимир Николаевич Ильин (1891-1974) – философ, богослов, литературный и музыкальный критик, композитор. С 1925 по 1941 г. – преподаватель Православного Богословского института в Париже. Активно участвовал в Русском студенческом христианском движении. В 1941-1942 гг. жил в Берлине. Затем вернулся в Париж. После войны читал «лекции на апологетических курсах в церкви Московского патриархата, и институте богословия, основанном о. Евграфом
 Ковалевским» (Козырев А.П. В тени Парнаса и Афона // В.Н. Ильин. Эссе о русской культуре. С.28-29).
Ковалевским» (Козырев А.П. В тени Парнаса и Афона // В.Н. Ильин. Эссе о русской культуре. С.28-29). Автор книг:
Преподобный Серафим Саровский. Париж, 1925; Запечатанный гроб. Пасха нетления. Объяснение служб Страстной недели и Пасхи. Париж, 1926; Всенощное бдение. Париж, 1927; Атеизм и гибель культуры. Варшава, 1929; Шесть дней творения. Библия и наука о творении и происхождении мира. Париж, 1930; Арфа Царя Давида в русской поэзии. Брюссель, 1960; Религия революции и гибель культуры, Париж, 1987 и др. Печатался в «Пути», «Вестнике РСХД», «Возрождении», «Новом журнале» и др. Многие философские, богословские, литературоведческие труды В. Н. Ильина до сих по не опубликованы. Интерес к наследию Федорова возникает у В.Н.Ильина в 1920-е гг. Первая из написанных им статей о Федорове – «О религиозном и философском мировоззрении Н.Ф.Федорова» – была напечатана в 1929г. в «Евразийском сборнике» (поводом к ее написанию стал раскол внутри евразийского движения; текст статьи см. во II томе Антологии в разделе «"Философия общего дела" Н. Ф. Федорова в духовных исканиях русского зарубежья»). В 1931 г. появляется вторая статья Ильина «Н. Ф. Федоров и преп. Серафим Саровский», вошедшая в серию его «Этюдов о русской культуре» и представлявшая собой пятый этюд. Упоминания о Федорове периодически встречаются в статьях и книгах Ильина 1930-1960-х гг. В 1950-е гг. Ильин написал отдельную книгу о Федорове (хранится в собрании В. Н. Ильиной, в настоящее время готовится к печати).
Анастасия Гачева
Τί οΰν ή φιλοσοφία τό τιμιώτατον.
Что же такое философия? – самое ценное. Плотин
Повседневный опыт убеждает нас в том, что все люди умирают. Однако жизнь этих повседневных людей проходит так, как будто бы они были твердо убеждены в своем бессмертии. Странно!.. Обыденное миросозерцание обыденных людей – плоский, серенький позитивизм – превратило таинство смерти в такую же обыденщину, как купля, продажа, завтраки, обеды, ужины... В теории господствует то, что можно было бы назвать удачным термином «смертобожничества», – на практике каждый твердо убежден, что умрет только его сосед и ближний, сам же он вовеки будет тянуть свою скорбную и пошлую волынку жизни. Ужасно то чувство самодовольства, с которым живые присутствуют при смерти и провожают мертвецов: самые лучшие и благородные не могут избавиться от глухого в подсознании раздающегося голоса: «Как хорошо, что он, а не я; какой молодец, – жив и здоров».
А между тем если и можно с несомненностью назвать по имени жало смерти и указать на него, так это именно и будет тот отрыв от «общего дела жизни», который приводит к гибели оторвавшихся и к их безлюбовному самостному лжебытию. Умирают именно потому, что говорят: «Как хорошо, что он, а не я». Такое выражение, такое самочувствие и есть смерть того, к кому оно приразилось. Тайна соборного бытия жизни заключается в том, что жизнь каждого находится в руках каждого. Господь говорит об этом в загадочной притче о домоправителе неправедном: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лук. 16: 9). Суть в том, что каждый может быть для своего ближнего такой вечной обителью во взаимности любви во Христе и каждый может изгнать и толкнуть другого на страшную дорогу, ведущую к обрыву смертной пропасти. «Всяк ненавидящий своего брата человекоубийца есть» /1Ин.3:15/. Но равнодушие есть самая жесткая форма ненависти, личина, которую надевает на себя лицемерие.
Идея человека вечна и укоренена в свете непреступном Божественной Премудрости. Она присутствует с человечеством Христа Бога на престоле Бога Отца. Но эмпирический человек есть сущность текучая, становящаяся, она не столько в бытии, сколько в становлении. Ее бытие вечно и бессмертно, ее становление временно, смертно и преходяще. Отсюда и двойственность, противоречивое осознание человеком одновременно своей смерти и своего бессмертия. Но отсюда также и страшное противоречие в осознании всем человечеством текучести его человеческого облика. На одном полюсе – зверь «обезьяна» (бывает и похуже), на другом – Богочеловек. Не только отдельные люди умирают, умирает и погасает временами человеческий тип, отрываясь в своем злом борении и злом делании от прототипа, от образа Божия. «Приложихся к скотом несмысленным и уподобихся им». Но в лице своих лучших представителей – праведников и мудрецов – опять воскресает человеческий образ в человечестве и сияет своей богоначертанной красотой. Величайший праведник и величайший мудрец – Господь Иисус Христос – есть вместе с тем и Воскреситель растленного и павшего «горе скота» человеческого образа. В Человеке Иисусе воскрешено человечество. Но отдельные люди продолжают свое раздробленное лжебытие и умирают. Смерть людей после воскресения Христова представляет один из величайших соблазнов, о который спотыкается человечество вот уже две тысячи лет. В этом же роде соблазном является и злая, порочная жизнь христиан, принимающих благодать таинств.
Что же это такое? – Или Воскресение Христово бессильно, или благодать таинств недействительна? Или не было никогда и не будет ни Воскресения, ни благодати, и все это пустая мечта и фантазия?
Обычным ответом на такой вопрос является то, что общее воскресение приурочено к страшному суду, когда и раскроется сила Христова Воскресения и действенность благодати таинств. Конечно, это так. Но можно ли успокоиться на таком ответе? Ведь страшный суд связан с неописуемой по своим ужасам агонией мира и вечной гибелью многих. Пришествие Христово, для каждого христианина сладостное и желательное, как встреча возлюбленных, здесь превращается в грозу и смертный ужас. Так ли это должно быть? Ведь совершенная любовь изгоняет всякий страх, и если наступает «день лют» (dies irae – «день гнева»), то значит не было совершенной любви. А так как любовь познается по делам, то, значит, и не было дел любви. Гл. 25-я Евангелия от Матфея, раскрывающая тайну страшного суда, говорит об этом совершенно определенно и недвусмысленно. Нет христианства вне идеи свободы.
Страшный суд потому будет, что его могло бы не быть.
Священная логика любви и благость Божия приводят нас к той мысли, что и страшный суд и предшествующая ему эсхатологическая катастрофа («Апокалипсис») имеют конвенциональное, условное значение. Идея конвенциональности, условности, проходит лейтмотивом через всю Библию. Здесь мы упомянем наиболее яркие примеры. Второзаконие в 28-й главе являет одновременно путь благословения и путь проклятия, путь спасения и путь погибели. В книге пророка Ионы в 3-й главе нас потрясает и умиляет всенародно-соборное покаяние ниневитян и отмена Господом наложенного на них прещения. Пророк, вдохновленный Духом Божи-им, ходил по городу и восклицал: «Еще сорок дней, – и Ниневия будет разрушена» (Иона. 3:4). И покаяние отменило Божественный приговор – ибо Бог есть Бог милостивый, «каяйся о злобах человеческих».
Совершенно то же самое можно сказать и о конвенциональности смерти, которая ведь и связана вневременным и сверхвременным образом со страшным судом и Апокалипсисом:
Смерть потому существует, что ее могло бы не быть.
Конвенциональный характер смерти совершенно определенно раскрыт во 2-й и 3-й главах книги Бытия.
Раз конвенциональный характер смерти и эсхатологической катастрофы доказан, отсюда с необходимостью следует и другой вывод: человек есть, по замыслу Божиему о нем, существо активное, призванное к сотрудничеству, сотворчеству со своим Творцом и даже к преодолению своей тварности. Основное качество тварного совершенства есть бессмертие и неразрывно с ним связанная вечная слава. Два великих, не обинуясь скажем, два величайших русских человека говорили, – один о человеческой активности в деле стяжания вечной славы, а другой – о человеческой активности в деле бессмертия. Эти люди – преподобный Серафим Саровский и гениальный мыслитель Николай Федорович Федоров.
Преподобный Серафим Саровский – пророк вечной славы человека в Духе Святом, пророк Фаворского света.
Николай Федорович Федоров – пророк бессмертия и воскрешения, пророк соборного общего дела, в самом важном для человечества – в борьбе со смертью.
Этими двумя честными главами увенчан храм русской культуры.
Как странно, как чудесно, как отрадно, что в XIX веке прогремело благовестив о Воскресении Христовом! И в таких неслыханно прекрасных и мощных формах, как явление преп. Серафима Саровского и Николая Федоровича Федорова – тоже, несомненно, святого и праведника, во всяком случае, – при наличии сверх того философского гения.
Тот самый XIX век, который так яростно ополчился против чудесного и прежде всего против чуда всех чудес – Воскресения Христова – он же выдвинул и двух апостолов этой основы евангельского благовестил. Явления этих двух светил есть, несомненно, одно из исполнений обетования Христова: «Не оставлю вас сирыми, прииду к вам» (Иоанн. 14:18); и другое Его слово: «Вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников» (Матф. 23:34), – несомненно, относится сюда же.
Господь прежде Своего дня «Великого и страшного» посещает народ Свой, являя ему святых, мудрецов и праведников. Но само явление этих лиц есть уже как бы прелюдия архангельских труб последнего дня. Таковы свойства русской культуры – она наполовину объята огнем парусин (второго пришествия), огнем Боговедения, белым огнем ревности Божией, в ней горит ревность Илии Фесвитянина, дух пророка Божия, в огне вознесшегося на небо.
Раскрывается сущность русской культуры как эсхатологического благовестил о сущности человека и его дела на земле. В XVIII веке выступает гениальный Державин с откровением о человеке:
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих, Черта начальна Божества,
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь, я раб, я червь, я Бог.
(Державин. Ода «Бог»)
Трудно поверить, чтобы из человеческий груди мог вырваться такой гром. Внимая ему, невольно повторяешь слова Иова многострадального:
«О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом, – на вечное время на камне вырезаны были» (Иов. 19: 23-24).
Такой книгой является многострадальная история России с ее трагическими контрастами праха и ума, царя и раба, червя и Бога. Другими словами, история России – нового Израиля, есть одна из гениальнейших глав мировой поэмы о человеке. Но истинная и подлинная сущность человеческой гениальности как раз и заключается в том, что поэма должна стать действительностью. Это и значит, что мы подходим к теме преп. Серафима Саровского и Н. Федорова.
О «черте начальной Божества», о славе духовности проповедует нам делом своей святости преп. Серафим Саровский. О «повелевании умом громам» пророчествует Н. Ф. Федоров.
И тут и там раскрытие правды о едином Царствии Божием и царстве человека в богочеловеческой истине. Но XIX век раскрыл и разоблачил в человеке безбожного червя и бунтующего раба – в ужасах социальной драмы, социальной неправды, социального расслоения. В вышеприведенной строфе Державина не только прославление человека, но и слово о той бездне, которая раскрылась перед ним как путь ниспадения от Бога к царю и от раба к червю. «Червь» – ведь это не риторическое украшение и не страшное слово, а самая ужасная правда, ибо нет дна в пропасти расчеловечивания, угрожающей человеку – если он остановится на пути своего восхождения к богочеловеческому идеалу и соучастия в деле Божественного творчества.
Давно уже лучшие в человечестве скорбят о язвах Церкви. Но никогда, кажется, эти язвы не были так страшны, как в новую эпоху, когда образ Божий в человеке исказился страшной печатью капиталистического рабства при попустительстве и даже одобрении эмпирической церкви в лице ее представителей – от мирян и до епископов. За это дурные христиане были наказаны ростом безбожного социализма и коммунизма, которые во имя диавола стали осуществлять то, что христиане не захотели осуществлять во имя Бога. Не менее страшным был отрыв христианства от науки и техники, как от чего-то грязного, ничтожного или в лучшем случае – только терпимого. Преступная апатия и холод поселились в сердцах представителей церковного народа, и снова сказался роковой закон природы духовной, которая, так же как и телесная, не терпит пустоты. Наука и техника направились на дело обслуживания мамоны и безбожия. И если древняя дохристианская наука и техника целиком вышли из устремленного в свет бесконечности духа жрецов, то служители христианского культа, к величайшему позору и ужасу для человечества, стали в большинстве случаев носителями идеологии ограниченности и тьмы. Ужасны эти две язвы, но третья еще ужаснее – это мир, который был заключен христианским человечеством с страданием и смертью, как с чем-то таким, чему действительно быть надлежит – искажая истинный смысл слов Христовых, согласно которым «надлежит всему этому быть» именно вследствие негодности человека.
Разговаривая как-то с Н. Федоровым, Л. Толстой взял в руки череп и сказал, усмехнувшись: «Люблю я эту курноску»*. А в разговоре с Н. П. Петерсоном в апреле 1899 года Л. Толстой выразился так: «Вот я стою одною ногою в гробу и все-таки скажу, что смерть – вещь недурная» **.
* А.К. Горностаев. Перед лицем смерти.
1928. С. 8.
** Там же.
Эти слова Л. Толстого, несомненно, являются одним из самых ярких выражений того внутреннего богопротивного мира со смертью, который отравляет и искажает как эмпирическое церковное сознание, так и вполне секуляризированную безбожную культуру8. Враждебное отношение Л. Толстого к науке, искусству и, что особенно замечательно, к медицине, несомненно, коренится в этой своеобразной страшной религии смертобожничества. Здесь основной корень обскурантизма. Это и вызвало необычайное противление Н. Ф. Федорова системе философско-богословских и историософских идей Л. Н. Толстого. Вот как передает А. К. Горностаев один из эпизодов этой священной войны Н. Ф. Федорова с системой идей Л. Н. Толстого.
«"Мало ли глупостей написано; следовало бы все сжечь", – вырвалось у Толстого при взгляде на бесконечные книжные полки.
Федоров вспыхнул: книга была для него святыней, надгробным памятником, отпечатком жизни умершего автора, который должен быть со временем восстановлен, воскрешен и воссоздан весь по этому бледному отпечатку. "Много я видел на своем веку глупцов, а такого еще не видал", – отвечал он на реплику Толстого и гневался на него несколько дней. Тот сконфуженно извинялся и просил прощения»*.
*Там же. С.7.
Надо заметить, что Л. Н. Толстой, основным свойством которого была совершенно неслыханная гордость, встретился-таки с человеком, перед которым он почувствовал свою несостоятельность и слабость – и внутренне, так же, как, впрочем, и внешне, вынужден был склониться перед ним. Этим человеком был Н. Федоров.
Вся эта борьба друзей-врагов есть вообще трагический символ не только русской культуры, но и основного борения, происходящего в уме и в сердце всего человечества. Это «прение живота со смертью» может быть названо вообще основным лейтмотивом истории человеческого рода, основной ведущей темой культуры, и от его разрешения зависят вечные судьбы человечества. Сюда и направил свой орлиный взор Н. Ф. Федоров. Он стал решительно и бесповоротно на сторону жизни против смерти, подняв знамя Воскресения Христова и памятуя Его слова: «Дела, яже Аз творю и вы сотворите, и больше сих сотворите» /Ин.14:12/. Все силы человеческого ума и чувства, науки, искусства, религии, техники мобилизовал этот удивительный православный энциклопедист на борьбу с «курноской». В этом его исключительное значение, не только для России, но и для всего мира.
Всем известно, что преп. Серафим Саровский круглый год христосовался с приходившими к нему благоговейными посетителями. Федоров увидел в этом не простое религиозное приличие, но поистине новое слово и новую установку духовной жизни. Вот где источник того безграничного благоговения и любви, которые вызывал этот святой у великого мыслителя.
В своем месте мы уже говорили, что столетняя годовщина Николая Федоровича Федорова (1828-1903) прошла почти совершенно незамеченной*. Мы и теперь повторяем, что такое невнимание к великому мыслителю и праведнику – несомненно, один из тягчайших упреков, вписываемых историей в обвинительный акт русскому, поистине, многогрешному обществу. Любопытно, хотя и глубоко печально, что подлинно великие люди входили в общество и принимались им главным образом темными сторонами своей личности и своего творчества, тем, что в этом творчестве было неумного, безобразного и плоского. Достаточно упомянуть, например, «Критику догматического богословия» Льва Толстого.
* См. мою статью о Н.Федорове: Евразийский временник. Париж, 1929. Разработкой этого наброска и является настоящий этюд.
Но Н. Федоров никогда не был повинен ни в грехе гениального потемнения, ни в приобщении к кругу ничтожеств.
В его личности нет темного осадка, он насквозь светится, сияет, и слово его – растворено подлинной христианской солью, – оно от Логоса; и в этом много общего у Н. Федорова с преп. Серафимом. Н. Федоров, кажется, единственный русский человек (из не-причисленных официально к лику святых), до конца сознававший ответственность за каждое сказанное слово. Но потому и каждое слово Федорова – драгоценность. Словом Логоса созидается мир, отпадением от него – разрушается. Мир, несомненно, разрушается развратным пустословием злых глупцов, хотя бы они и казались себе и другим большими умниками. «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается» (Притчи 11: 11).
Гниющему и гноящему пресному пустословию расхожей общественности противостоит нетленный «гений с солью» – Н. Федоров.
Антитеза эта – ярка и выпукла, она сразу бросается в глаза. Явная ложь и явная истина легко отличимы друг от друга. Гораздо труднее обстоит дело тогда, когда явной, сияющей, подобно солнцу, истине противостоит не очевидная ложь и тьма, но сумеречное серое царство частичных истин, полуистин и всякого рода относительностей, словом, того мира, где «все кошки серы». Надо быть правдивым: полуистинами и относительностями очень часто грешит и настоящая философия. Достаточно назвать Канта, Гегеля, Германа Когена (чтобы не упоминать современников), и мы поймем о ком и о чем идет речь.
Личность и учение Н. Федорова одним уже фактом своего бытия совершают как бы страшный суд над настоящей наукой, над настоящей философией. Слово Слова, исходящее от Федорова – оно проникает в бронированные твердыни владык философии и науки, рассекает, как мечом обоюдоострым, их хитросплетения и на страшных глубинах открывает черноту и наготу – то нищенство, которое не ублажается в Нагорной проповеди (Матф. 5:3), но осуждается в лице раба, имеющего только один талант (Матф. 25:14-30; Лук. 19:12-26). «Один талант» – это одна голая научно-философская данность, одна теория, не излучающая действенной силы, остающаяся без претворения в дело, без плодоношения в вечность.
Две великие духовные добродетели отличают Федорова как мыслителя и ставят его в положение царя и судьи среди сонма других мыслителей. Первая добродетель – праведная жизнь – «житие». Н. Федоров, кажется, единственный философ – если не считать Сократа – с «житием», а не с биографией. Правда, элементы жития в сильной степени наличествуют в биографии Г. С. Сковороды. Последний, однако, не может быть сравниваем с Н. Федоровым ввиду полного несоответствия пропорций и типа философского творчества, – хотя оба и были по преимуществу богословами. Г. С. Сковорода был «народный мудрец», «странник» – тип, естественно свойственный русскому народно-национальному лику. Федоров был воздержанник, отшельник, труженик и ни в малой степени не этнографический курьез. Все в нем строго, величаво и полно святой благостности.
Чрезвычайно важно отметить, что Федоров едва ли не более всего действовал на своих современников личностью и житием. Именно личность и житие заставляли прислушиваться к его гениальным мыслям, являясь для них сильнейшим рупором. Таково единогласное свидетельство всех знавших его – включая сюда таких гигантов, как Вл. Соловьев, Достоевский и Л. Толстой, – равно как и многих других. «Из их согласных описаний рисуется образ человека кристальной чистоты жизни и колоссальной умственной силы»*.
*Биографический очерк А. Остромирова /псевдоним А.К. Горского – прим. А.Гачевой/, приложенный к первому выпуску «Философии общего дела» (Харбин,1928. С.XI).
В. А. Кожевников так передает впечатление от Н. Федорова, всю жизнь, как известно, прослужившего библиотекарем Румян-цевского музея в Москве: «Кто из бывших в 70-х и 80-х годах в читальном зале, а позднее в так называемой "каталожной" не помнит высокой, высохшей, слегка сгорбленной, но полной энергии фигуры этого одетого в ветхое рубище старика, в глазах которого сверкал страстный огонь целомудренной юности, этого на первый взгляд сурового облика с небольшой седеющей бородкой, с длинными редкими серебристыми кудрями, с могучим, спереди обнаженным черепом, на котором мускулы и жилы вздымались буграми, как только напрягалась его оригинальная дума и лилась его глубокомысленная и остроумная речь. Кто из имевших с ним дело не знает, как этот внушавший сначала некоторую боязнь строгий человек оказывался добродушнейшим, услужливейшим из людей, как только замечал в посетителе библиотеки или музея серьезный и живой интерес к какой бы то ни было отрасли знания, которые все были дороги и милы этому "всеведущему" так же, как и все жаждавшие просвещения»*.
Н. Федоров «уже одною своею жизнью вносил в окружающую жизнь много доброго и поучительного»**. Про кого из философов можно сказать, что он обладал этим свойством в такой мере? – особенно, если речь идет о присяжных академических философах. Про кого из представителей новой философии можно сказать, что его жизнь заключалась в «самоотверженном служении ближним всеми силами и способностями»?*** Кто из профессиональных учителей миросозерцания от софистов и до наших дней боялся денег, как «чего-то ядовитого, заразного и мерзкого»?**** – притом, не будучи ни утопистом, ни революционером, ни социалистом.
* Цит. У Остромирова (Там же).
** Некролог Некрасовой (Русские ведомости. №353. 1903. 24 декабря).
*** Статья П.Я. Покровского (Московские вдомости. № 23, 24, 25, 26. 1904. 23-26 января.
**** Сообщение В.А.Кожевникова, цит. У А.Остромирова (С.XV); см. Н.Ф.Федоров. Философия общего дела. Т.1. Вып.1. Харбин, 1928.
Непрерывный труд и питание одним чаем и баранками, почти постоянное бодрствование и спанье на голых досках, хождение без верхней одежды в самые жестокие московские морозы, работа лишь урывками и по ночам при свете небольшой жестяной лампочки над своими бессмертными творениями, которые писались на разрозненных клочках бумаги, раздача своих жалких трудовых грошей (37 рублей в месяц) нуждающимся, пламенная религиозность, усердное посещение церкви для молитвенного делания и постоянная устремленность духа ввысь – это ли не праведность, это ли не житие?
Как это не похоже на житейское времяпрепровождение академических философов!
Вторая добродетель Н. Федорова – непрерывный труд над пополнением своих знаний. Подавляющая ученость возносит его на такую высоту, на которой эпитеты «профессора», «ученого» просто ничего не значат. По единогласному свидетельству, он знал содержание всех книг Румянцевского музея, которого библиотекарем он состоял. При всем том, знание содержания этого книгохранилища было для него делом, так сказать, минимальным; он постоянно пополнял свои знания, руководствуясь лишь интересами науки и ученых. Им руководила не честолюбивая претензия на энциклопедизм, но сердечная любовь ко всем сторонам знания, ко всем его проблемам. Он достиг того, что мог дать любому специалисту любую детальнейшую справку по его предмету, с относящейся сюда библиографией на всех важнейших языках. Это касалось в такой же мере знаний естественно-научных и прикладных, как и философски-гуманитарных. Тут есть действительно нечто чудесное. И это чудо – Божий дар знания в ответ на дух любви великого праведника. Дух любви привлек дух знания, и мы на конкретном примере жития великого русского мыслителя воочию убеждаемся в неразрывной связи, существующей между знанием и любовью. Эта же связь является и основным действующим мотивом философских построений Н. Федорова.
Новое время и особенно наша эпоха почти совершенно утратили истинный смысл и великую глубину, заключающиеся в слове «философия» (любовь к мудрости), с превосходным синонимом, возникшим из недр германского гения; этот синоним – философия – «наука о миросозерцании» – Weltanschaungsglehre. Но, к сожалению, как раз в этом синониме и наблюдается та ущербность, против которой всю жизнь боролся Федоров. Ущербность эта заключается в одностороннем теоретизме и в отсутствии установки на важнейшее и существеннейшее, что и делает философию «самым ценным» – по выражению Плотина. Именно в германском, как и вообще в европейском, понимании философии оказались совершенно устраненными из поля зрения философов две великие неразрывно связанные между собою истины:
1) подлинное знание всегда соединено с его действенным осуществлением, с благой целью: «φιλοσοφοϋμεν μετ’ εύτελίαν (мы философствуем с благою целью)», –говорит Фукидид, вкладывая изречение в уста Перикла; ибо подлинная мудрость, так или иначе не выраженная в личности и в делах ее носителя, – не есть полнота мудрости;
2) чтобы созерцать мир в его последней сущности и глубине, надо его иметь в себе, надо его принять в себя, – а это доступно лишь любви; любовь же не может оставаться безучастной зрительницей страдания, вражды, разделения и смерти – в противном случае она не любовь. Знание, любовь, деятельность – взаимно обусловлены.
Над этими двумя основными истинами царит их источник: верховная истина о вечной жизни и вечном блаженстве – «Кто нашел меня, тот нашел жизнь», – говорит Сама Премудрость (Притчи 8:35). То, что не есть вечная жизнь и вечное блаженство, или то, что не ведет к ним, естественно, не может быть названо мудростью, а любовь к нему, естественно, не может быть названа философией – да и вряд ли это любовь. Скорее здесь может идти речь о лжемудровании, лжефилософии и о суетном искажающем знании, лжезнании, клевещущем на бытие и искажающем его по своему собственному неподобию. Таков, например, материализм, эвдемо-ническая философия, позитивизм, механический каузализм и т. п. Отсюда и суровый приговор Федорова над лжефилософией и суетным знанием: «Если предмет науки заключается в разрешении вопроса о причинах вообще, то это значит, что наука занята вопросом: "Почему сущее существует?" – так как оба эти вопроса, очевидно, однозначущи. Вопрос же, почему сущее существует, – вопрос, очевидно, неестественный, совершенно искусственный. Но как неестественно спрашивать – почему сущее существует? –так вполне естественно спросить – почему живущее умирает?»*.
Эта простая и гениальная мысль Н. Федорова может быть формулирована так: бытие есть очевидность, и лишь смерть оказывается страшной проблемой. Но разрешение этой проблемы есть одновременно и преодоление смерти, разрушение ее державы – что и есть основа христианского благовестил. Отсюда идея воскрешения как господствующий тон, «доминанта» всего философского творчества Н. Федорова. Поэтому у Федорова как бы стоит знак равенства между философией и воскрешением, так как для него воскрешение есть предел философии.
Между тем трагедия смерти есть основной факт истории. Отсюда то, что у Федорова философия истории стоит на первом плане – в чем он является национальным русским философом. Огромная разница между обычным пониманием философии истории и федоровским состоит в том, что для «московского Сократа» объект истории, т. е. прошлое, есть вместе с тем и объект воскрешения, восстановления истребленного, умершего, убитого.
«История как факт есть взаимное истребление, истребление друг друга и самих себя, ограбление или расхищение через эксплуатацию и утилизацию всей внешней природы (т. е. земли), есть, собственно, вырождение и умирание (т. е. культура**); история как факт есть всегда взаимное истребление, будет ли оно открытым, как во времена варварства, или же скрытым, как при цивилизации, причем жестокость делается только утонченною, а вместе и более злою»***.
* Философия общего дела. Т.1.Вып.1. Харбин, 1928. С.13.
** Очевидно, здесь термин «культура» взят как синоним «цивилизации».
*** Философия общего дела. Т.1. Вып.3. Харбин, 1930. С.8-9.
Такова история как факт. Чем же она должна быть, каковой должна быть история, рассматриваемая под углом зрения категории должного? Федоров дает на это неотразимый по силе и убедительности ответ: «История есть всегда воскрешение, а не суд, так как предмет истории не живущие, а умершие, и чтобы судить, нужно прежде воскресить, – хотя бы и не в прямом смысле, – нужно воскресить их, умерших, т. е. понесших уже высшую степень наказания, смертную казнь»*.
Вряд ли мир видел более потрясающее и ослепительное соединение философии истории, суровой этики долга и бесконечное сострадательной агапики – христианской любви. Под этим углом зрения история превращается в действенный долг сынов по отношению к умершим отцам. У сынов остаются две возможности в выборе: или забыть своих отцов, или же помнить о них. Забвение отцов, куда относится и самая омерзительная форма этого – памфлетно-карикатурное, клеветническое воспроизведение истории, – есть деяние хамово – одновременно беспамятство и нелюбовь. Забвение отцов есть вместе с тем вражда сынов между собою и безумие – беспамятство. По сильнейшему выражению Н. Федорова, «если воспоминания не будут муками совести, то умершие явятся в виде миазмов»**.
* Там же. С.5.
** Там же. С.7. В этом кратком, но необычайно сильном утверждении содержится угроза несказанного ужаса, для которого трудно подобрать краски. Ибо здесь и символика упыря, и диавольски искаженная идея вечной памяти, и полное извращение родственных связей и отношений.
Мы живем в эпоху, когда хамово деяние забвения отцов сынами достигло в практике капитализма и марксизма высочайшей степени. Вместе с тем достигло своего предела памфлетно-карикатурное отношение к истории, и даже сами музеи, высокий смысл которых – вечная память, стали у марксистов как бы продолжающейся смертной казнью, пыткой отошедших и издевательством над прахом отцов. Поистине, можно крикнуть этому поколению слова римского сената, обращенные в свое время к Катилине: «Hostis! Parricida!» («Враг! Отцеубийца!»).
Но может быть и другое, совершенно противоположное этому отношение сынов к умершим отцам. Его и проповедует Н. Федоров, о нем говорит Пушкин в бессмертных словах старца Пимена:
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро,
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
Православная церковь заключает свой великий и глубокомысленный чин поминовения усопших соборной молитвой о том, чтобы Господь сотворил отшедшим вечную память. Великое слово с бездонно глубоким смыслом бездонно глубоким смыслом – ибо укорененность отошедших в памяти Божией есть вместе с тем и их вечная блаженная жизнь – это великолепно показано о. П.Флоренским в его «Столпе и утверждении Истины». Но не надо забывать, что со времени явления Христа Божие дело неразрывно связано с человеческим. И вечной памяти Божией должно соответствовать воскрешение образов отошедших в памяти человеческой.
Отсюда рождается великая идея храма-музея и внехрамовой литургии, т. е. литургии, переставшей быть только внутрихрамо-вым символическим действием, но распространяющимся из храма, как из переполненной чаши, на все человечество, соединяемое братской любовью вокруг могил отцов. Так как Бог есть Бог живых, а не мертвых, и вокруг Агнца на престоле собраны и живые, и отошедшие, то в пределе литургия и должна стать общим воскресением и воскрешением. В этом должна сказаться объективность Церкви, ибо между Церковью и литургией может и должен быть поставлен знак равенства, т. к. и литургия, и Церковь есть «общее дело».
Устами тайновидца апостола Иоанна Богослова днем и ночью возносится к небу молитвенный вопль и страстный призыв: «Ей, гряди, Господи Иисусе» /Откр.22:20/.
Но вера без дел мертва, и сила этого молитвенного вопля, этого страстного призыва в своем нарастании не может не стать святой активностью с объединением всех духовных сил навстречу грядущему во славе Богочеловеку. Пассивное ожидание Второго Пришествия есть одно из величайших заблуждений, отдаляющих Второе Пришествие и превращающих историю в дурную бесконечность бессмыслиц, пошлостей и взаимноистреблений. «С объединением же знания и действия созерцание обратится в представление того, что должно быть, т. е. в проект, в действие, бывшее при бессознательности взаимным истреблением станет всеобщим воскрешением» – так вещает Федоров.
Все, что можно было сделать силами одного человека, чтобы явить лик истинной философии, – Федоров сделал. Во второй раз человечество увидело Сократа*, т.е. человека, за которым уже кончаются возможности тварные и начинается боготварность.
* «Московским Сократом» назвал Федорова проф. С.Н. (ныне протоиерей) Булгаков (Два Града. Т.П.М., 1911; интересная статья «Загадочный мыслитель»).
Однако явление Сократа после Христа должно быть совершенно особенным. И «московский Сократ» – образ совершенно новый, ибо таинственным голосом, звучащим в душе Сократа-христианина, было слово Логоса. «Даймоном» Федорова было учение Богочеловека.
Итак, борьба с бесплодным теоретизмом в науке и в философии, борьба с риторическим и пассивным пониманием истин христианства – вот поле битвы, доставшееся в удел на жизненном пути Федорову. Пламенное стремление к реализации делает Федорова литургистом в предельно глубоком смысле этого слова. Быть может, ему удалось так углубиться в реалистическую символику христианства, в его реальный «проективизм», что он, стоя на твердом основании традиционной православной литургики, являет миру скрытые в ней и до сих пор не вмещаемые возможности и сокровища.
Федоров вскрывает в православной литургике ее глубокий действенный смысл и воспитательное значение. Сокровища православной археологии и литургики перестали быть у Федорова мертвым обрядоверием, в цепи которого они были закованы, подвергаясь за это грозному осуждению Слова Божия (Исайя 1:13-16). Федоров расковывает литургику, закованную в цепи литургизма, косного и мертвого формалистически-законнического обрядования. Для него церковный календарь – подлежащая осуществлению школьная программа училища*, каковым ему и надлежит быть, ибо престол Божий в храме не только жертвенник и судилище, но и училище – об этом говорят такие литургисты, как Симеон Солунский, архиеп. Вениамин Нижегородский и др. Но так как литургия есть священное общее дело (литургия λειτουργία от λειτόν έργον, и значит – «общее дело»), то, с другой стороны, учение Федорова связано с богословско-философским учением о единстве. Отсюда и центральная богословско-литургическая и морально-философская идея Федорова о значении основного догмата христианства – догмата о Пресвятой Троице. Для него это учение есть откровение о совершеннейшем соборе и потому связано с идеей воскрешения и вечной жизни. Он говорит: «Божественное Существо, Которое Само в Себе показало совершеннейший образец общества, Существо, Которое есть единство самостоятельных бессмертных Личностей, во всей полноте сознающих и чувствующих свое неразрываемое смертью, исключающее смерть единство, – такова христианская идея о Боге, т. е. это значит, что в Божественном Существе открывается то самое, что нужно человеческому роду, чтобы он стал бессмертным. Троица – это Церковь бессмертных, и подобием Ей со стороны человека может быть лишь церковь воскрешенных. В Троице нет причины смерти и заключаются все условия бессмертия»**.
* См. выдержки из III тома «Философии общего дела» (Путь. №10. 1928. Апрель. С. 21-27).
** Философия общего дела / Под ред. В.А.Кожевникова. Т.1. С.68.
Таким пышным цветом расцветает у Н. Федорова идея Церкви-Троицы, представляющая, несомненно, святоотеческую традицию, восходящую к св. Иларию Пиктавийскому, а может быть, и еще далее. Основной смысл богословских утверждений Федорова это то, что атрибуты пресв. Троицы «Единосущная» и «Животворящая» восходят к одному смыслу и означают в сущности одно и то же. Литургически эта центральная мысль Федорова находит свое полное подтверждение, между прочим, в том огромном символическом значении трисвещника, которое он имеет во время службы Пасхальной недели и особенно в Пасхальную ночь*. Этот трисвещник, который не надо смешивать с архиерейским трикирием, возжигается только в Пасхальную неделю и совершенно ясно указует на то, что воскресение из мертвых есть дело и слава всей Пресвятой Троицы, явленной в тайне Богочеловечества.
* Чрезвычайно характерными для Федоровского литургико-технического проективизма являются «Величание и Похвалы Пасхе», содержащиеся в письмах Федорова к В.А.Кожевникову (См.: Евразия. 1928. 4 мая. Субб.)
Так как отпадение от единства есть вместе с тем отпадение от реальности – тление, разрушение и смерть, – то учение Федорова, естественно, венчается учением о борьбе с нереальностью, фантомами, разъединением и тлением, т. е. со смертью – ибо смерть – царство разъединенных теней. Реально – действенно-любовный и литургический характер миросозерцания Федорова естественно и с особого рода внутренней закономерностью увенчивается учением об активном воскрешении мертвых. Это и есть как бы предел учения, его идеальное завершение и сияющий нимб. Любовь к мертвым есть любовь к отцам, к праотцам, к предкам. Литургика – отцовское предание; и когда мы с любовью произносим выражение «Отцы Церкви», то этим словом мы называем тех, кто нас породил духовно. Отсюда культ отцов, вскрытие христианской мистерии в том религиозном опыте, который представляет достояние всех народов и на котором все народы могут объединиться. Н. Федоров призывает совершить крестный ход на могилы отцов для воззвания их из мертвых. Отсюда православное возглавление всего земного бытия Пасхой, отсюда таинственная связь с личностью и учением преп. Серафима Саровского. Величайший святой земли русской учил о животворящем Духе Божием в знамении Фаворского Света. Он учил о том, что если бы человек после крещения не грешил, то его плоть была бы подобна плоти Господа Иисуса Христа. Но Фавор есть знамение Воскресения, и его лучи — прежде страдания. Этим и объясняется, почему великий пророк Духа Святого и Фаворского Света был и пророком Воскресения.
Н. Ф. Федоров – пророк. И в этом основной смысл его явления на вершине русской культуры.
Кто такой пророк? И что такое пророческий дух?
Трудно представить себе что-либо более ложное, чем понимание пророка в качестве только ясновидца, медиума предвосхищающих будущее видений. Такая точка зрения недостаточна, в значительной степени ложна и даже кощунственна. Пророчество не есть предзрение будущего, хотя этот момент иногда и входит в пророческое служение, сопутствует ему. Это великолепно и тонко понял Пауль Тиллих – корифей современного «религиозного социализма» в Германии. Ибо в ясновидении, в предзрении будущего, есть черты сильнейшего натурализма, это явление хотя и метапси-хического, но все же естественного порядка; оно может быть даже демоническим. Демонизм и натурализм великолепно уживаются вместе. И тот и другой лишены морального содержания, моральной силы и пафоса, лишены подлинно творческого дерзания и действенной, сознающей свое призвание и свою ответственность силы. Короче говоря, здесь душа, а пророчество – это дух. Ясновидец-медиум лишен свободы, лишен действия и лишен свободы действия. Он – психический автомат. И здесь нет места приложению Духу Божественного Провидения. Ибо Дух Божий – это прежде всего творчество, свобода, творческая свобода. И пророк есть свободный глашатай судеб Божиих, глашатай, сливший свою волю с волей Божией, он – человек, узревший правду Божию и страстно желающий ее свершения, как бы оно ни было ужасно. Символ пророчества – третье прошение Молитвы Господней: – Да будет воля Твоя.
Пророк может быть, и часто бывает, активным вершителем судеб Божиих, он является их одушевленным и свободным орудием. Таковы Моисей, Судьи Израилевы, Цари Израилевы (Давид и Соломон), Илия, Даниил и др.
Огненное слово Исайи, Иеремии, Иезекииля и других пророков жгло мир и зажигало в нем иное бытие. Пророк — «иной» миру, он «инок» в самом возвышенном и таинственном смысле, да и само истинное иночество есть пророческое явление, жгущее мир и потому ненавидимое миром.
«Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Иоан. 15:19).
Самое трудное призвание – пророческое. Свободно подчинить свое «малое», «слишком человеческое» «я» с его малой, почти кажущейся свободой, пойти в мир с эсхатологическим огнем на устах и в сердце, с мечом воина и – страшно выговорить – с секирой палача – это ли не ужас, это ли не мука? И Сам пророк всех пророков и исполнение голосов пророческих Господь Иисус Христос говорит: «Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (Лук. 12:49).
Высшую меру томления, предваряющего и сопровождающего подчинение своей свободы свободе Божественной и своего «я» «Я» Божественному, показала Гефсиманская ночь. Раскрылся пророческий ужас двух природ и двух воль в таинственной правде Богочеловечества. Эта страшная правда стоила Сыну Человеческому кровавого пота и смертной скорби. Мощный дух пророка-человека не выдерживал подчас ее томления, и на весь мир раздавалась жалоба Иова на свой жребий и проклятие себе. Гимн переходит в проклятие и проклятие в гимн. «Ты влек меня, Господи, – и я увлечен; Ты сильнее меня – и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной. Ибо лишь только начну говорить я, – кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его; но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и – не мог» (Иеремия 20:7-9).
И эта жалоба гиганта достигает высочайшей силы и находит ужасающие выражения, далеко превышающие всякие силы человеческие.
«Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе я вверил дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасет душу бедного от руки злодеев. – Проклят день, в который я родился; день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен! Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: "у тебя родился сын" и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел; да услышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе – так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее осталось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезли в бесславии» (Иеремия 20:12-18).
Поистине тягчайший жребий – жребий пророческий. И смертная горечь заключена в видении сокровенного. «Кто умножает познание, тот умножает скорбь» (Экклезиаст 1:18). Пророчество – несомненно, особый и притом высший род познания.
Заметить надо еще одну особенность пророческого духа – это то, что его носители могут чрезвычайно различаться по моральной ценности – от достойнейших и святейших во главе с Самим Господом Иисусом Христом – до валаамовой ослицы. Святость есть частое, но не обязательное свойство пророка. Конечно, надо провести, несмотря на это, резкую границу между святыми мужами, избранными сосудами Духа Святого, «глаголавшаго пророки», и теми, кто «неволею пророчествует». В этом смысле пророчествовать могут в определенное Богом время самые разнообразные лица, события и даже животные, стихии и неодушевленные предметы. Это и есть вечный символизм (Leben als Symbol), по выражению Э. Дакэ. «Настоящее содержит прошедшее и чревато будущим» – по блестящему определению Лейбница. В определенные моменты и сроки мировой истории, которые удачно именуются религиозными социалистами «кайросом» (καιρός), – термином взятым из Нового Завета¹, — наступают кануны великих свершений, и раздаются пророческие глаголы. Да и сам Новый Завет есть величайший «кайрос» мировой драмы. И тогда «камни вопиют», и противники воли Божией делаются невольными исполнителями ее предначертаний. «Днесь Каиафа неволею пророчествует»2.
Примечания А.Г. Гачевой:
¹ ό καιρός γάρ έγγύς έστίν – ибо время близко. Выражение из 22 главы Откровения: «И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко» (Откр.22:10).
2 Выражение из стихиры, входящей в утреню Великого четверга.
«Днесь» – это и есть «кайрос». «Неволя» – знак того, что Божия воля сбывается в символах пророческого кайроса, несмотря ни на какие ухищрения индивидуального своеволия, или, может быть, именно благодаря им. Это своеобразно являемый смысл античной «мойры» – судьбы; «мойры» – не в смысле материалистически-механического детерминизма – дурной фантазии, порожденной ограниченностью задворков философии – но в образе символического «кайроса» – судеб Божиих неисповедимых.
Поэтому неудивительно, что Достоевский назвал явление Пушкина пророческим (сам Достоевский – явление еще более пророческое). Неудивительно, что пророчеством звучало гениальное лирическое косноязычие Блока – особенно в изумительных «Двенадцати». Неудивительно, наконец, что русская революция и русский коммунизм, несмотря на все их ужасы и мерзости, – суть явления пророческого кайроса.
Здесь мы и приходим к наметившейся развязке русской драмы в лице триады ее важнейших знамений: к девятнадцатому веку мы видим три пророческих образа, самых разнообразных качеств и значений, – но одинаково, хотя и в противоположных смыслах, возвещающих о наступлении кайроса. Образы эти – ограниченный русский революционер-позитивист; мудрый книжник, посланник Христов (Матф. 23:24) Н. Ф. Федоров и праведник, «воссиявший как солнце» (Матф. 13:43) – духоносный старец преп. Серафим Саровский. Но пророчество об одном – о страшной катастрофе, об одной из апокалипсических труб и чаш – о мировом кайросе, средоточием которого оказалась русская революция, пророческое явление коммунизма и страстотерпчество Русской Церкви. И поразительно, что венец русской культуры – русское искусство – главным образом несравненная русская литература, собрала в себя и показала все три грани мирового кайроса нашего времени – революцию, великое делание и преображение.
О «кайросе» пророчествуют сейчас в Германии религиозные социалисты – но пророчество это оказывается сильно усеченным и ослабленным литургической безблагодатностью и безвкусицей, почти приближающейся к жалкому косноязычному мычанию баптистов.
Н. Федоров гораздо раньше и несравненно лучше поднял голос за то, что «общее дело» литургии должно быть действительно осуществлено – за неосуществление его на нас накладывается иго внешнего насильственного коммунизма. Не захотели «камкания» (древний русский термин, означающий причащение – от латинского communio, одного корня с коммунизмом), – получили «коммунию». «Не слушались отца, матери, – послушались барабанной шкуры». Не захотели внять пророческому голосу творца «Философии общего дела», призывавшему к действенному участию в Воскресении Христовом, к борьбе с последним врагом – смертью, к отвержению самого страшного из всех идолопоклонств – поклонению смерти («смертобожничества») – покарались такой «пляской смерти», такой danse macabre на основах технического прогресса, – которой мир не видал. И такие ли еще ужасы впереди!
Наконец, преподобный Серафим Саровский сиянием лика своего и учением о стяжании Духа Святого звал к великому просветлению образа Божия в человеке. Не захотели послушаться – и вот человечество уже стоит у порога расчеловечения и превращения в ту «белоголовую бестию» (blonde Bestie), о которой говорил в свое время Ницше. Еще черты лица сохранили формальную человечность выражения, но не лучи Фаворского Света льются с современного лица, а беспредельная, умопомрачительная, обезьянья пошлость; на всякие упоминания о святости оно может ответить лишь обезьяньими ужимками, которые многие готовы счесть тонкой усмешкой большого ума.Все эти пророчества, возникшие из недр русской культуры, показывают, что русская земля есть действительно богоносная и Новый Израиль, ибо в ней живет преемственно дух Древнего Израиля – Дух Пророческий; словно Илия Елисею, бросил Древний Израиль Новому свою милоть.И горе тем, кто не внемлет этому тройному вещанию пророческих уст Израиля Нового.Эти уста ныне запеклись кровью – и на челе пот великой страды, – но тем сильнее жжет огонь пророческий.
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но правдой вещею звучат
Уста, запекшиеся кровью!.. А.Блок
Таков образ русской культуры. Она поистине Гамаюн – птица вещая.
Впервые напечатано: Вестник РСХД. 1931. № 7. С. 8-13; № 8-9. С. 9-26; № 11. С. 13-16. Печатается по: В. Н. Ильин. Эссе о русской культуре. СПб., 1997. С. 94-115. // Н.Ф.Федоров: PRO ET CONTRA. РХГИ, СПБ, 2004. С.690-708
|
||||||||
|
В.Н.Ильин
|
||||||||