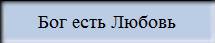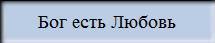Бог есть Любовь
18. Как его называют другие народы
Если ШЬАШәЫ (Шьяшвы)– действительно первое в истории имя “Бога в силах”, видимого Бога, то это имя должно найти свое отражение в религиозной лексике многих народов, также как и первое имя невидимого Бога АН. Однако, если имя АН легко узнаваемо, отличаясь лишь вариациями гласной, то с именем ШЬАШәЫ, непроизносимом на любом языке, кроме абхазского, дело обстоит сложнее. Прежде всего надо рассмотреть возможные параллели на иврите. Можно построить близкие по звучанию выражения ША-ШВУА, где ША ש: префикс принадлежности, ШВУА שבועה: клятва, т.е. ШАШВУА: Тот, кто клялся (Тот, чья клятва). “Клятва” здесь может означать и эдемский завет с Адамом и проклятие за его грех. Поскольку ША שה: ягненок, кожа, то евр. ШАШВУА может означать также “Клявшийся на коже”, т.е. записавший слова завета на священной коже; вспомним абх. АНЦәА: Бог кожи. Если заменить ШВУА на ШУА שוע: спасать, то евр. ШАШУА: Тот, Кто спасает – аналог имени ЙОШУА ישוע: Йахве спасает (в иврите принято передавать указания на Йахве с помощью одного слога ЙА, ЙЕ, ЙО); с именем ЙОШУА (греч. ИИСУС) сравним абх. ИАШәАУА: Ему (ИА) подобный (АШЪА) человек (УА). Наконец, еще одна ассоциация ШАА: равный, одинаковый, подобный, т.е. ШАШАА: Тот, Кто равен (подобен).
Абазины (как, по-видимому, и убыхи) употребляли божественные имена АНЦәА и ШЬАШәЫ в том же смысле и с тем же звучанием, что абхазы, в наибольшей степени, как мы полагаем, сохранившие первоначальное адамитское произношение. В адыгский язык ШЬАШәЫ вошло в форме УАШО: нарицательное именование бога вообще (Ш.Д. Инал-Ипа). Если это сближение верно, то мы получаем исключительно важную цепочку: адамитское и абхазское ШЬАШәЫ – адыгское УАШО – хаттское ВАШАВ – хурритское и хеттское ТЕШАБ – урартское ТЕЙШЕБА. Появление АВ или АБ связано с тем, что в соответствующих языках это означает “отец”, т. е. ТЕШАБ можно понять как ТЕШ-отец (не от этого ли ТЕШ происходит русское ОТЕЦ? ). Дальнейшая трансформация имени: хеттское ТЕШАБ – греч. ТЕОС Τεως и ДЗЕУС, ЗЕВС Ζεύς; индоиранское ДЬЯУШ и ДЬЯУШ-ПИТАР (общеиндоевропейское ПИТАР: отец, отсюда латинское ЮПИТЕР). Однако за этой цепочкой лингвистических трансформаций обнаруживаются следы крупнейшего религиозного переворота древности. Если у адыгов и хаттов УАШО или ВАШАВ мирно сменяют верховного Бога АН, которого просто забывают, а у латинян он сохраняет почетное место под именем ЯНУСА или ЯНА, то у хурритов, а вслед за ними – у хеттов, греков, урарту вклинивается характерный сюжет последовательного “свержения” богов: АНУ– КУМАРБИ– ТЕШУБ; УРАН– КРОН– ЗЕВС. Первого из богов “оскопляет” и низвергает сын, которого, в свою очередь, свергает следующее поколение. Этот сюжет приоткрывает завесу над какими-то важными событиями начальной истории человечества: в последующих главах нам еще предстоит коснуться таких библейских фигур, как Тувалкаин, Хам, Нимрод.
Потомки Каина известны из Библии как первые металлурги: ТУВАЛ-КАИН ובלקיןת (рим. ВУЛКАН, Vulcanus) – потомок Каина в пятом колене, отмечен как “шлифующий и кующий всякую медь и железо” (Быт. 4:22). Библ. ТУВАЛ можно связать с
абх. ҬАБЛРА: сжечь в углублении – прямое указание на кузню. Термин появляется в абх. проклятии
ШЬАШәЫ УҬЕИБЛААИТ: чтобы ШЬАШәЫ сжег тебя в углублении;
близко по смыслу АРҬәАРА: расплавлять, откуда ҬәЖәЛА или ҬәАЖәЫЛ: м.б. "родоначальник плавителей";
с ТАБАЛ совпадает также абх. топоним ҴАБАЛ (ЦАБАЛ).
У ассирийцев оружейная сталь: ХУБАЛ-КИНУ (т.е. ТУБАЛ-КАИН); греки же называли ее адамас αδαμας: указание на связь с Адамом, отсюда же греч. АДАМАНТ: алмаз; на гипотетическом адамитском языке АДАМАНТ должно означать: принадлежащий Адаму Божию. Связь древней металлургии с родом Каина отражена также в хетт. КУАННА, греч. КИАНОС κηανος: медь.
19. Вокруг металлургических ценностей
Н.Я. Марр пишет: “Создатели металлургических ценностей.... группируются в определенной области яфетического мира, носят хорошо определенные яфетические названия, как то не только ТУБАЛЫ и КАИНЫ (или КАЙНИТЫ), но и халибы и др., в их числе МОСОХИ или МЕСХИ”. Напомним, что мы разделяем позицию Марра при условии замены термина “яфетический” на “адамитский” – очевидно, что в своих лингвистических “раскопках” он углубился в более ранние, дояфетические времена, в предпотопную эпоху. Н.Я. Марр приводит следующую квалификацию “яфетической” языковой семьи: “Первая ветвь – звуки шипяще-свистящие (сибилянты) – делятся на две группы: картскую (грузинский) и тубал-кайнскую (лазский – он же чанский и сванский – мингрельский, в древности иверийский). Вторая ветвь – придыхательные (спирантные), в нее входят три группы: абхазо-адыгская; лезгинская (аварский и др.); чеченская (включая ингушский)”. Хотя у Н.Я. Марра обнаружено много ошибок и необоснованных гипотез, но эта классификация, как и его выделение яфетической языковой семьи, остаются, в основном, не опровергнутыми.
Он, в частности, подчеркивает особую мифологическую роль железа: “Само НЕБО в представлении яфетидов является ЖЕЛЕЗОМ, и яфетическое слово “железо”, при том определенной тубал– каинской (впоследствии иверо-чанской, в более близкие к нам эпохи и ныне мингрело-лазской) формы или формы Ш-группы, успела отложиться в языках Армении... в значении НЕБА” (Н.Я. Марр, стр.103,104). Дополняя соображения Н.Я. Марра, мы должны сказать, опираясь на приведенные выше исследования абхазского кузнечного мифа (В.Г. Ардзинба), что речь должна идти не об одной, но о двух начальных культурах железа, в каком-то смысле противостоящих друг другу.
Для предпотопных потомков Сифа (будем условно называть их протоадыгами, в знак того, что в этой ветви адамитов сохранялся культ праотца АДЫ) железо было прежде всего великой святыней. Его связь с небом объяснялась тем, что первые металлы, с которыми человек имел дело, были самородное золото и метеоритное железо (абх. “пули АФЫ”), причем железо в древности ценилось неизмеримо больше. Вероятно, послепотопные сыны ИАФЕТА, оставаясь жить на земле предков, сохранили традиции сифитов-протоадыгов: поэтому они и стали известны грекам как первые металлурги: ХАБИЛЫ. Это название может происходить как от каинитского ТУВАЛ (ХУБАЛ), так и от АВЕЛЬ (ХЭБЭЛ), почитаемого яфетидами, а производимое ими железо – АДАМАС. Сохранившийся до нашего времени абхазский кузнечный культ рассматривает священные предметы из железа как проявления АНЫХИ – Божественной Энергии, Божественного Присутствия на земле.
Отношение каинитов к металлу было принципиально другим: эти достижения вызывали не священное благоговение перед Всевышним, но чувство гордости своим всемогуществом. В абхазском эпосе влияние каинитов проявляется в образе гордеца АБРСКИЛА, который ради богатырского тщеславия извлекает молнию, рассекая саблей облака – он хотел уподобиться этим Всевышнему. Но тот же Абрскил, защищая родную землю – истребляет рыжеволосых (дурная примета у абхазов), сероглазых, которые могут сглазить, напустить порчу – в этом можно видеть отголосок предания о борьбе с каинитами, физически слабыми, но обладавшими магическими способностями. Абх. АКАН: веснушки – перекликается с именем КАИН (рыжеволосые, как правило, имеют много веснушек), сюда же, как мы уже указывали, вероятно, восходит название племени АЦАН – карликов, колдунов, и, в некоторых вариантах предания, кузнецов. Всевышний АНЦәА запретил АБРСКИЛУ уничтожать рыжеволосых: замечательное совпадение с Быт. 4:15 – “и сделал Господь Каину знак, чтобы не убил его всякий, кто встретит его”. В связи с этим, возможно, появилось древнее абх. выражение КАН БЗИОУП (хороший КАН): сохранить вид, сохранить моложавость. Другой отголосок предания о табуирующем знаке, охранявшем Каина – древнегрузинское представление о НАЦИЛИАНИ: избранных людях, наделенных священными божественными знаками. Знаки обычно находились в скрытом месте – под лопатками или на бедрах; культ НАЦИЛИАНИ нашел отражение в приобщении детей (а также особо – царей и князей) к астральным божествам. Варианты мифа сообщают, что знак был как-то связан с огнем – или он был светящимся, или изображал свечу, солнце и т.п. На Ближнем Востоке сохранилось также предание о способе закалки ДАМАССКОЙ (вероятно, от АДАМАС) стали – в крови или моче рыжего мальчика – параллель с абхазским мифом о “рыжеволосых”.
20. Образ Прометея
Духовная борьба древних людей: за или против каинитской идеологии отразилась в образе Прометея – похитителя небесного огня. Видимо, здесь речь шла не об огне племенного костра или домашнего очага, известном с раннего палеолита, но именно о священном или магическом кузнечном огне для обработки и выплавки металлов. Армянская мифология различает священный, небесный огонь от молнии – и огонь ХУР: низменный, даже греховный, полученный путем высекания из кремня. Само происхождение образа Прометея остается неясным: в этом образе соединены черты нартского героя САСРЫКВЫ, отнимающего огонь у похитителя великана, и абхазского АБРСКИЛА, который прикован к скале в наказание за свое богоборчество. Образ ПРОМЕТЕЯ становится своего рода апофеозом каинитской идеологии – вероятно, каинитскими жрецами этот образ и был создан. Самый древний вариант мифа о Прометее, видимо, надо искать в чечено-ингушском варианте нартского эпоса: герой ПХАРМАТ (чеч.- инг. ПХЬЯР: кузнец) на богатырском коне достигает вершины г. Казбек и похищает головешку из очага СЕЛЫ, бога грозы и молний. Прикованный за это к г. Казбек, ПХАРМАТ страдает не только от ИДЫ, царицы птиц, но и от холода вечных снегов и льдов, собранных СЕЛОЙ со всех горных вершин и ущелий. Здесь можно видеть также отголосок (а, может быть, и первоисточник) иранского мифа о вечной борьбе огня со льдом. Грузинский аналог ПХАРМАТА-АМИРАНИ (АМРАН), восходящий к сванскому (или к лакскому, где появляется имя Амир) эпосу, похищает у бога – громовержца небесную деву КАМАР, олицетворяющую небесный огонь.
В адыгском варианте патриарх (тхамада) нартов НАСРЕН-ЖАЧЕ, напротив, борется с похитителем огня у нартов – богом зла ПАКО. Правда, образ двоится: герой пытается незаконно проникнуть в тайны верховного бога ТХА – в некоторых версиях его приковал к горе сам ТХА, в других – ПАКО. Освободил патриарха и вернул похищенный огонь нарт БАТРАДЗ.
Греческий ПРОМЕТЕЙ – хтонический, доахейский бог, сын титана ИАПЕТА. Греки, с глубокой древности связанные с Кавказом, видимо, заимствовали миф в его вайнахском варианте, заменив непонятное ПХАРМАТ на греч. ПРОМЕТЕЙ προμηθευς мыслящий прежде, предвидящий. Именно греки сделали этот миф, как, в прочем, и многое другое, достоянием мировой культуры. Глубокий знаток древних легенд Эсхил в своей трагедии “Прометей” вкладывает в уста героя слова:
Я всесожженьям смертных научил
И знаменьям глубоким, сокровенным ,
Являемым в пылающем огне.
Прометей находится в сложных отношениях с ГЕФЕСТОМ Ηεφαιστος, богом огня и кузнечного дела. Гефест хром на обе ноги, безобразен, но в жены себе взял богиню любви Афродиту. Для колхидского (!) царя он вырыл четыре волшебных источника, текущих из под виноградной лозы: воды, молока, масла и вина. Он кует оружие и щит герою Ахиллу, делает медных быков для царя ЭЙЕТА (!). Вергилий описывает подземную кузницу Гефеста грандиозных размеров, где куются молнии Зевса. Против своей воли, по приказу Зевса, Гефест приковал Прометея к горам Кавказа. Отмечается, что культ Прометея более древний, чем культ Гефеста. Поскольку в связи с Гефестом постоянно упоминается Колхида, а римские легенды называют его ВУЛКАНОМ, это дает основания отождествить его с библейским ТУВАЛ-КАИНОМ.
Согласно Эсхилу, Прометей увидел, что человек по сравнению с животными “беспомощен, наг, не обут, без ложа и без оружия”; чтобы помочь ему, он крадет искусство огня у олимпийского кузнеца ГЕФЕСТА, искусство шитья одежд – у Афины. Прометей наделил разумом слепых, жалких людей, живших как муравьи в пещерах, научил их строить дома, корабли, шить одежду, считать, читать и писать, различать времена года и т.д.
Во всем этом можно усмотреть самое древнее проявление духа самозванства, присвоения себе чужих достижений: вся монотеистическая традиция утверждает, что подобным учителем человечества был патриарх ЕНОХ. Следы этого предания сохранились и у Эсхила: единственное, чего не смог Прометей – это научить людей правилам совместной жизни; стыд и правду вложил в людей не он, а ГЕРМЕС, которого древняя традиция отождествляет с ЕНОХОМ. Но каинитские обвинения в адрес Творца, перенесенные, правда, на Зевса, продолжаются: Бог, якобы, не захотел заниматься исправлением и совершенствованием людей, а решил уничтожить их потопом. Восстановление нового человеческого рода приписывается тому же Прометею, а не патриарху НОЮ: якобы, именно сын Прометея ДЕВКАЛИОН, спасшийся от потопа, создает людей бросая за спину камни. Достойно внимания это упоминание о “камнях”: намек на адамитское “таинство камня”, таинство инициации, сотворения человека из преадамитов. Каиниты, как потомки Адама, должны были владеть этим таинством, но, потеряв Божественное благословение, превратили его в магический обряд, связанный, скорее всего, с огнем и кузнечным делом. Каинитские жрецы (кто-то из них тоже, вероятно, спасся от потопа) “создавали” людей, частично обладавших адамитской творческой силой, но проникнутых атеистическим, богоборческим духом. Несомненно, что этот дух имеет значительное влияние в современной цивилизации, одновременно творческой и атеистической по существу. Известен язвительный ответ математика и астронома Лапласа на вопрос Наполеона, верит ли он в Бога: “Сир, я в этой гипотезе не нуждался”. На вопросе о природе атеизма стоит остановиться подробней.
Прежде всего необходимо сказать, что сомнение в бытии Бога, вызванное возросшими требованиями ума и сердца, по сути своей не является антирелигиозным актом, но служит необходимым этапом на пути религиозного взросления. Эту мысль со всей свойственной ему энергией высказывает Иван Ильин:
"Религиозное сомнение само по себе не есть соблазн и совсем не предвещает конца религии... Сомнение отдаляет религиозное детство и, может быть, религиозное отрочество от зрелой поры, от веры мужественной, крепкой и окончательной. Оно не соблазн, а горнило, не конец религии, а обновление и углубление. Отмахиваться от него значит нарочито длить своя детскую беспомощность, т.е. умалять силу веры и победу религии... Чтобы его преодолеть, надо в нем побывать; не преодолевший его сохраняет уязвимые места своей религиозности, которые могут раскрыться в труднейший час жизни и привести его к духовному крушению".
Искреннее сомнение, движимое жаждой неподдельной достоверности в самом главном для человеке вопросе, становится конструктивным и созидательным действием:
"'В религиозном сомнении человек уже одержим тем самым Предметом, в котором он сомневается и о котором все еще не решается сказать – ни "да", ни "нет". Эта одержимость сама по себе до наступления религиозной очевидности и без нее – религиозное событие: это есть подлинный и драгоценный духовный опыт, он строит личный дух и определяет судьбу его носителя. В религиозном сомнении человек приобретает некий спектр жизни и бытия. Это сомнение столь подлинно и интенсивно, что сомневающийся дух находит в нем подлинную сердцевину своей жизни: свою духовную любовь и свою духовную воли"
(И.А.Ильин, стр. 192, 197)
21. Почему так трудно верить в Бога?
Среди создателей современной культуры было множество одаренных и благородных людей, которые отвергли как преступные внушения преисподних сил, так и лукавые нашептывания “князя, господствующего в воздухе”, но при этом попали во власть скептического, недоверчивого настроения, замкнутого на материальном мире и на человеке с его приземленными текущими проблемами. При этом теряется из виду вся перспектива человеческого развития, картина жизни замыкается в узкий промежуток между рождением и смертью и никакие реальности духовного мира не принимаются всерьез. Одним из самых подходящих занятий при таком настроении становится ироническая критика Творца, хотя и “несуществующего”, за нелогичность, непоследовательность и безрезультатность Его планов и действий. Нелепость бытия служит, таким образом, доказательством того, что никакого Творца нет; при этом автор критики неосознанно подразумевает, что на месте Творца он бы все сделал лучше – нам, однако, неизвестен ни один случай, когда эта мысль была бы продумана всерьез и до конца.
Поскольку наша книга посвящена “земле Адама”, то нам кажется уместным привести здесь некоторые размышления одного из лучших сынов этой земли, впавшего однажды в подобное настроение и со свойственным ему тонким психологизмом посвятившего в него своих читателей. С этой целью приведем достаточно обширную выдержку из всемирно известного романа Фазиля Искандера “Сандро из Чегема”:
“В этот еще свежий зной, в этот тихий однообразный шелест папоротников словно так и видишь Творца, который сотворил эту Землю с ее упрощенной растительностью и таким же упрощенным и потому, в конце концов, ошибочным представлением о конечной судьбе ее будущих обитателей, так и видишь Творца, который пробирается по таким же папоротникам вон к тому зеленому холму, с которого он, надо полагать, надеется спланировать в мировое пространство.
Но есть что-то странное в походке Творца, да и к холму этому он почему-то не прямо срезает, а как-то по касательной двигается: то ли к холму, то ли мимо проходит...
А-а, доходит до нас, это он пытается обмануть назревающую за его спиной догадку о его бегстве, боится, что вот-вот за его спиной прорвется вопль оставленного мира, недоработанного замысла:
- Как?! И это все?!
- Да нет, я еще пока не ухожу, – как бы говорит на всякий случай его походка, – я еще внесу немало усовершенствований...
И вот он идет, улыбаясь рассеянной улыбкой неудачника, и крылья его вяло волочатся за его спиной. Кстати, рассеянная улыбка неудачника призвана именно рассеять у окружающих впечатление о его неудачах. Она, эта улыбка, говорит: “А стоит ли так пристально присматриваться к моим неудачам? Давайте рассеем их на протяжении всей моей жизни в виде цепочки островов с общепринятыми масштабами: на 1000 подлецов один человек”...
Творец наш идет себе, улыбаясь рассеянной улыбкой неудачника, крылья его вяло волочатся за спиной, словно поглаживая кучерявые вершины папоротниковых кустов, которые, сбросив с себя эти вяло проволочившиеся крылья, каждый раз сердито распрямляются. Кстати, вот так же вот в будущем, через каких-нибудь миллионы лет , детская головенка будет сбрасывать руку родителя , собирающегося в кабак и по этому поводу рефлексирующего и с чувством тайной вины треплющего по голове своего малыша, одновременно выбирая удобный миг, чтобы улизнуть из дому, и она, эта детская головенка, понимая, что тут уже ничего не поможет, отец все равно уйдет, сердито стряхивает его руку: “Ну и иди!”
Но все это детали далекого будущего, и Творец наш, естественно, не подозревая обо всем этом, движется к своему холму все той же уклончивой походкой. Но теперь в его замедленной уклончивости мы замечаем не только желание скрыть свое дезертирство (первое в мире), но отчасти в его походке сквозит и трогательная человеческая надежда: а вдруг еще что-нибудь успеет, придумает, покамест добредет до своего холма.
Но ничего не придумывается, да и не может придуматься, потому что дело сделано, Земля заверчена, и каждый миг ее существования бесконечно осложнил бы его расчеты, потому что каждый миг порождает новое соотношение вещей и каждая конечная картина никогда не будет конечной картиной, потому что даже мгновенья, которое уйдет на ее осознание, будет достаточно, чтобы последние сведения стали предпоследними...Ведь не скажешь жизни, истории и еще чему-то там, что мчится, омывая нас и смывая с нас все: надежды, мысли, а потом и самую плоть до самого скелета,– ведь не скажешь всему этому: “Стой! Куда прешь?! Земля закрыта на переучет идей!”
Вот почему он уходит к своему холму такой неуверенной, такой интеллигентной походкой, и на всей его фигуре печать самых худших предчувствий(будущих, конечно), стыдливо сбалансированная еще более будущей русской надеждой: Авось как-нибудь обойдется... (Фазиль Искандер, стр. 406-408).
22. Немного поспорим с Искандером
Велика все-таки, сила художника!
Пока трудолюбивая мысль связывает концы с концами, да еще проверяет на прочность каждую нитку, или строит здание, тщательно подгоняя один камень к другому, легкокрылая эмоция, мимолетный образ, нисколько не заботясь о скучной логике, выпархивает из головы художника и так же беззаботно поселяется в сердце читателя или зрителя. И вот так, на скорую руку свитое в сердце гнездо оказывается порой более живучим и долговечным, чем тяжеловесные построения разума. Грустно вздохнув о нашей неспособности состязаться с Мастером на его же поле, прибегнем все к той же логике, которая хотя и не в чести в повседневной жизни, но без которой, что ни говори, ни дом не построишь, ни детей не воспитаешь, ни книжку не напишешь.
И первое, что нас удивляет в рассуждениях столь дорогого нам человека: предъявляя претензии к Творцу по поводу папоротников, он почему-то забывает, что главным делом и главной заботой Творца служат вовсе не папоротники, а сам Фазиль Искандер с тончайшими движениями его души, с его жизненной драмой, с его мучительными усилиями выбраться из тупика скептических мыслей. И вот тут мы никак не можем согласиться с уважаемым Фазилем, что Творец оказался неудачником; Бог с ними, с папоротниками, но один такой успех оказывается важнее целых зарослей даже и вполне удачной, совсем неоднообразной и очень сложной растительности. А то, что на тысячу подлецов один человек, то это, во-первых, не так уж мало, а во-вторых, каждый подлец тоже немножко человек, а для кого-то близкого совсем даже и не плохой человек! Здесь так и просится на язык, что каждый честный человек, хоть иногда, хоть раз в жизни, но бывает немножко подлецом – даже вот и святейший апостол Петр. Ну представим себе, что на тысячу честнейших людей приходился бы только один подлец – да его нарасхват приглашали бы на все застолья как драгоценную диковинку. А если бы вообще все люди оказались идеальными, честнейшими и совершенными с самого начала! Впрочем, с какого начала? С начала нашей эры или с каменного века? Со школьной скамьи или с первых слов, или со дня появления на свет? Или, может быть, с того сокровенного момента, когда две родительские клетки образовали таинственную завязь, из которой потом непостижимым образом вырастают писатели и их критики? Если мы представим себе, что все было создано идеальным и законченным с самого начала, то не понадобилось бы никакой истории, никакой борьбы, никакого томления по недостижимому пока совершенству. Но само это томление откуда-то взялось же в нас, столь несовершенных и ограниченных, с больным телом и страдающей душой.
И если бы апостол Петр никогда не предавал Учителя, то разве чем-то не обеднела его вечная душа, если бы из нее ушла память о драгоценном, хоть и горьком, миге раскаяния. Наш непревзойденный оппонент, конечно, не упустит нашу оплошность и скажет: Ага, и вы вступили в мир русских пословиц: не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься! На это мы ответим, что вовсе не оправдываем ни предательства, ни любой другой грех, но мы оправдываем Творца (это оправдание нужно не столько Ему, сколько нам), Который сотворил человека, способного грешить или не грешить, способного быть подлецом или быть честным, способного исправлять свои ошибки или продолжать доказывать правоту своей неправды.
Нам, конечно, трудно посмотреть на мир глазами Творца и хоть немного вникнуть в Его проблемы, которые мы для Него с такой щедростью создаем. Но у нас все же есть дети, которые столь же неутомимо создают для нас проблемы, как мы для своего Творца. И положа руку на сердце, скажем: неужели мы были бы счастливы, если бы наши дети всегда, без малейшего исключения были правильными и безупречными и всегда хотели бы и делали только то, что хотим и ждем от них мы? С другой стороны, хорошо ли было бы для наших детей, если бы мы немедленно исполняли всякое их желание? Тогда из них выросли бы не только подлецы, но люди, не способные вообще ни к чему стремиться и ничего исправлять. И если малыш сердится на отца за то, что тот уходит в кабак, то ведь он точно так же сердится, когда отец запирается в кабинете, чтобы писать книжку, или уходит в союз писателей, чтобы эту книжку обсуждать.
Надо признать, что наш оппонент все-таки делает попытку войти в заботы Творца, но делает это, на наш взгляд, не очень удачно. По его мнению, Творец не в состоянии справиться с гераклитовой проблемой: какая может быть истина и как внести в жизнь что-то разумное, если все течет, все изменяется и нельзя дважды вступить в одну и ту же реку? Конечно, мы могли бы уйти от ответа, сказав: если мы чего-то не понимаем, то это еще не значит, что это невозможно. В конце концов Творец, создавший само время с его прошлым, настоящим и будущим, как-нибудь справится с этой проблемой, тем более что для своего времени неплохо с ней справился и Гераклит. Если Бог и создал камень, который Он Сам не в состоянии поднять – то это человек, особенно такой мудрый как Искандер; надеемся, впрочем, что и этот камень Он поднимет и сумеет разобраться даже со всеми нами. Но мы с нашим собеседником Фазилем уже не в том возрасте, чтобы удовлетворяться такими, хотя и справедливыми, сентенциями, указывающими на нашу ограниченность. Так вот, даже и в нашей ограниченности будет неверно утверждать, что прошлое – это то, чего уже нет, а будущее – это то, чего еще нет. На самом деле, прошлое для нас отчасти тоже есть – благодаря чудесному дару памяти; будущее тоже отчасти есть уже сейчас – благодаря способности предвидения. Так что даже мы отчасти способны оценивать прошлое, исправлять настоящее и разумно планировать будущее: конечно, у нас, в отличие от Бога, все “отчасти”.
Кстати, возникает впечатление, что многоопытный Мастер на этот раз ошибся и Творца с кем-то перепутал. Мы привели основные библейские образы Бога и ни в одном из них не находим, например, крыльев. Может быть, уроженец Чегема, погружаясь мистической памятью и художественным воображением в далекое прошлое своих родных эдемских холмов, увидел не Творца, но одного из тех ангелов, которые упорно занимаются не своим делом и поэтому действительно оказываются хроническими неудачниками. Меткое указание художника на “неуверенность и интеллигентную походку” позволяет думать, что он принял за Творца того ангела – скептика, который с самого начала был недоволен самой идеей сотворения человека и все время пытается переделать мир по-своему, “лучше и справедливее”, чем это сделал настоящий Творец. Конечно, каждый волен выбирать себе друзей, но нам все же кажется, что это не совсем подходящая компания для Искандера, с его подлинно адамитской творческой мощью, с его реализмом и человечностью, с его чуткой совестью и кровной привязанностью к родной земле.
И нам, более чем кому-либо, понятно благородное нетерпение Фазиля, который не хочет мириться с болезненным состоянием мира, в котором все еще господствует смерть, “смывая с нас все: надежды, мысли и самую плоть до самого скелета”. Если это действительно так и если нет бессмертия души и воскресения тела, если мир не идет к тому, чтобы стать Божьим царством, то мы поневоле присоединились бы к столь горькой оценке Фазиля о неудаче творения. Как говорил еще апостол Павел, “если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков” (1Кор. 15:19). Добавим от себя: сколь же несчастен человек, который не надеется на Христа даже в этой жизни. И сколь же велика адамитская сила духа, разбуженная в человеке Творцом, если даже при таком безнадежно-унылом состоянии ума он сохраняет в себе лучшие человеческие стремления и чувства, с такой щедростью излитые на весь мир в бессмертных творениях Фазиля Искандера: “Стоянка Человека”, “Созвездие Козлотура”, “Сандро из Чегема”. Но за нежеланием поверить в Творца нередко скрывается какая-то глубокая и затаенная личная обида, оскорбленная гордость. Каждый из нас порой накапливает подобные обиды и затем предъявляет за них высший счет обществу, миру, бытию в целом или даже Самому Богу.
Завершая наше несколько затянувшееся отступление, скажем несколько слов и в защиту не совсем справедливо задетого папоротника. Во-первых, это один из самых ранних опытов Творца, одно из самых древнейших растений, современник молодого и совсем незрелого мира, в котором еще даже не было динозавров. Как один из первых набросков, он, может быть, не так уж и плох: дивные каштаны и кедры появятся позже, но ведь не все сразу – и не будь в свое время папоротника, не появилось бы и все последующее.
Наконец, когда Фазиль в окружении друзей будет потягивать из хрустального бокала молодое красное вино “амачар”, мы позволим себе почтительно напомнить ему, что это вино процежено через все тот же скромный непритязательный папоротник.
23. Назойливый хриплый голос
С сожалением завершая наш заочный спор со столь благородным оппонентом, мы вынуждены перейти к оппонентам менее благородным, ибо все резче и настойчивей звучит их назойливый, хриплый голос.
Если для людей с пантеистическим мировосприятием идея творения непонятна, то для пророков “Абсолютной Революции” эта идея глубоко ненавистна. Уже упоминавшийся А.Г. Дугин от имени всей своей традиции бросает открытый вызов:
“Идеология Творец-Творение или креационизм во всех своих формах и вариациях всегда противоположна гностическому подходу “полярно-райской” идеологии, которой тематика Творения или несовпадение Творца и Твари вообще чужда. Собственно, между этими двумя типами мировоззрения и проходит основная линия идеологической борьбы в истории... Как предельная форма – антиклерикализм гнозиса и концепция Злого Творца, Злого Демиурга. Концепция Злого Демиурга основывается на том, что, если факт разделения на Творца и Творение по тем или иным причинам нельзя более не признавать, от этого ни Творец, ни Творение не становятся духовно позитивными, а значит, и сам этот Творец никто иной, как Злостный Узурпатор, а Творение ничто иное, как злая, временная иллюзия, завеса над Раем”
(А. Дугин, стр. 88-89).
24. Под видом ненависти к евреям – ненависть к адамическому человечеству
Носители “полярно-райской” (в нашем понимании – антихристовой) идеологии объявляют, таким образом, беспощадную войну верующим сынам Адама – за то, что они продолжают верить в Бога, Который Адама сотворил. Запредельная, метафизическая ненависть к евреям оказывается, по существу, выражением ненависти преисподней к “еврейскому Богу”, т.е. к Яхве, к Иисусу в Его Божественной природе. Водораздел, однако, не проходит между религиями и народами: он проходит внутри религий и народов. Дух Абсолютной Революции находит себя и в манихейских традициях христианского общества, и в неоплатонизме иудейской каббалистики, и в некоторых формах шиитского эсхатологического культа “скрытого Имама”.
“Обе идеологические позиции – продолжает А. Дугин – “Творец-Творение” и “Рай-Полюс” часто сосуществуют в рамках одного и того же Общества, в рамках одной и той же политической системы. Однако это никоим образом не отменяет гигантского различия, существующего между ними. Эти идеологические типы непримиримы, как огонь и вода, как свет и тьма, и именно между ними происходят такие жестокие схватки (альбигойский крестовый поход, фатимидский халифат, войны гвельфов и гиббелинов, французская революция и т.д.), которые немыслимы между представителями разных традиций, разных религий и разных политических систем” (там же, стр. 92).
Но более всего ненавистен для “сверхчеловеков” сам человек, духовный потомок Адама. Праотец Адам изображается ими в виде злобной карикатуры: как ожившая кукла, как метафизический робот, как прототип Голема – фантастического чудовища средневековой кабалистики.
“Идея Голема имеет универсальную значимость, и ее изучение может дать нам ключи к пониманию некоторых фундаментальных основ монотеизма и креационизма, – пишет все тот же автор. Центральность онтологической позиции Адама в монотеизме авраамического типа очевидна. Концепция “Голема” – это в первую очередь концепция “грубой формы”, оживляемой чем-то сущностно внешним по отношению к ней самой, чем-то приходящим со стороны и уходящим снова. И в этом смысле “големичность” Адама – это синоним его “земной природы”, его происхождения “из праха”, его подчеркнутой и сугубой тварности” (там же, стр. 252).
Нет ничего более трудного для постижения, чем основополагающий библейский догмат творения! И немногие постигают его! Метафизическая ярость Дугина и ему подобных питается глубинным сознанием своей религиозной ущербности. Между тем, ни в каком человеке на самом деле подобной ущербности нет: есть лишь страх и нежелание сделать решающий шаг, совершить онтологический поступок – акт веры, абсолютно свободный и в каком-то смысле безумный.. Здесь необходимо поверить в то, что человек абсолютно не способен ни помыслить, ни вообразить: в то, что свобода может быть сотворенной. Между тем, творение, не обладающее свободой, вообще не есть творение, но лишь продолжение или эманация своего творца. Вся суть именно в том, что Бог сотворяет независимое от Себя бытие в лице человека, наделяя его той свободой, которой обладает изначально только он Сам. Сотворенный Богом свободный человек совсем не похож на механическую куклу. Он похож на Самого Бога.
Вот как пишет об этом Виктор Аксючиц:
"Человек свободен как никто в тварном мире. Его свобода простирается до свободы отказа от своего назначения и принятия небытия. Бремя свободы обрекает человека на трагическое одиночество в мироздании. Вся тварь спасается страдательно и зависит от человеческого выбора. Но даже на Бога не может человек переложить свой выбор: предвидение Божие не означает предопределения человеческой судьбы. Все, что творчески совершается человеком – впервые привносится в мир, и эта новизна определяет сущность всего мироздания. Какое трагическое и тягчайшее бремя – быть свободным как Бог! И какая беспредельная ответственность!" (В.Аксючиц, стр. 255).
Если мы не можем постичь, как Бог сотворил свободу, то мы можем догадываться о том, как много для него означает факт существования этой свободы.
Библейско-христианская традиция исходит из того, что в силу своей бесконечной любви Всевышний умалил, “сократил” Самого Себя, сотворив рядом с Собой мир и предоставив ему право и необходимые силы для самостоятельного существования. Себе Он оставил лишь надежду на то, что в лице человека этот мир по собственной воле придет к своему Создателю. В этом смысле присутствие Бога на земле всецело обусловлено существованием Адамова рода. Враг понимает это и устами своих пророков возглашает: “Много стало людей. Слишком много стало людей” (Ф. Ницше). Развивая эту мысль, А. Дугин, со всей серьезностью призывающий к ядерному терроризму, дает понять, что уничтожение Адамова рода или, по крайней мере, резкое сокращение числа ненужных людей, будет равносильно уничтожению Самого ненавистного Творца или, по крайней мере, изгнанию Его с нашей земли:
“Многие версии талмудических легенд неизбежно оканчиваются катастрофой, фатальной не только для самого Голема, но, что гораздо важнее, для его создателя (Создателя! – авт.). Если продолжать развивать параллель между творением Адама Богом и конструированием Големов раввинами, не будет ли гибель раввина под обломками рухнувшего глиняного гиганта (Адам: “человек из глины”! – авт.), выросшего до неимоверных пропорций, аналогом “Смерти Бога”, в отношении которой Ницше уточнял: “Бог умер. Мы убили его. Вы и я”. И сам рост Голема, не напоминает ли он демографический рост населения, действительно сопровождающийся, в той или иной степени, непременной “атеизацией”? (там же, стр.252).
Идея любви, составляющей сущность Бога, у врага отсутствует. Через одно из своих “человекоорудий” он клевещет: любовь – это “месть чандалы” (чандала – то же, что “пария”, отверженный, плод смешения каст), любовь – психологический яд, предназначенный для ослабления воли к власти у представителей высшей касты (Ф. Ницше). Преследуя совсем другие цели, враг невольно приносит нам пользу, побуждая глубже осознать величие Божественной Любви. Творец, лишенный подлинной любви к своему творению, действительно представлял бы собой кукольного мастера, который забавляется игрой сконструированных марионеток: возможно, нечто подобное действительно имеет место в каинитской магической традиции. Такое творчество не означало бы ничего большего чем самореализация, расширение личности мастера за пределы самой себя.
25. Уникальность Библии
Образ Всевышнего как “кузнеца” имеет фундаментальное значение в религии, восходящей к Адаму. Суть этой религии не столько в монотеизме, т.е. в представлении о единственности Бога, сколько в креационизме, т. е. в представлении о сотворенности мира этим Богом. Творение противопоставлено здесь рождению: множество языческих религий говорят именно о рождении, т.е. о происхождении мира из сущности Творца. Поскольку рожденное от Бога есть Бог, то из идеи рождения вытекает своего рода “монотеистический пантеизм”: все существующее божественно по природе, мир есть Бог или, по крайней мере, часть Бога, Его тело, Его эманация, форма Его собственного бытия. Это и есть основной догмат, объединяющий круг современных религий, известных под названием учений “Новой Эры” (Нью-Эйдж). Этот основной догмат не всегда высказывается прямо, но подразумевается как нечто очевидное само по себе.
Уникальность библейской религии, которая есть продолжение и развитие религии Адама, состоит именно в догмате творения, который выражен в первых же словах книги Бытия: “В начале сотворил Бог небо и землю” (Быт. 1:1) и, проходя красной нитью сквозь весь текст Священного Писания, подтверждается в словах заключительной главы Откровения Иоанна, которой заканчивается вся Библия: “Се, творю все новое” (Откр.21:5). Без веры в творение нет никакого христианства, но лишь очередная разновидность язычества. Мир сотворен Богом из чего-то, что возникло лишь как результат действия Его творческой воли. Мир, по воле Творца, есть изначально “другой” по отношению к Нему: именно в этом заложена возможность для мира когда-нибудь вступить в свободные отношения с Богом. Способность вступать в отношения свойственна только личности: возведение мира на личностный, человеческий уровень есть высшая цель мировой эволюции – такой вывод с необходимостью вытекает из догмата творения. Религии же, в которых мир объявляется эманацией Бога, вовсе не возвышают человека, как это может показаться на первый взгляд – но, по существу, отрицают его статус как самостоятельной по отношению к Богу личности. Именно в этом статусе, по мнению митр. Иоанна (Зизиуласа) коренится источник и человеческого творчества:
“Бытие личности есть источник созидательности .... мы свободны не по отношению к кому-либо, а для кого-либо другого, не такого, как мы. Это делает личность экстатичной (греч. ЭК-СТАТИК; И.З.), т.е. такой, которая выходит из своих собственных границ и превосходит их. Этот выход не должен быть понимаем как движение к неизвестному или бесконечному; это движение – утверждение.
Этот порыв личности к утверждению “инакового” настолько силен, что не ограничивается иным, которое уже существует, но имеет целью также утвердить “иное”, которое было бы проявление чистой благости личности. Как Бог сотворил мир по своей благости, так и личность хочет сотворить свое собственное иное. Все это – предмет искусства. Только Личность может быть художником в истинном значении этого слова, т.е. творцом, который в акте свободы и общения формирует совершенно иное. Жить в Церкви в общении с другими означает вследствие этого – творить культуру. Православная Церковь всегда была созидательна в культурном плане” (И.Зизиулас, стр.19-20).
26. Бог есть любовь
Все авраамические религии, во многом не соглашаясь друг с другом, единодушно свидетельствуют о главном. “Любовью вечной Я возлюбил тебя” (Иер. 31:3) – говорит Бог устами еврейского пророка (см. также Исх. 34:6-7); “Аллах милостивый и милосердный” – не устает повторять Коран; “Бог есть Любовь” (1 Ин. 4:8) – утверждает христианство. В современной культуре понятие любви сводится к чувственному влечению, романтическим грезам или в лучшем случае к сердечной привязанности, включая любовь между членами одной семьи или рода. Все это, однако, лишь смутные и несовершенные прообразы, но в то же время и подготовка к той любви, о которой говорит Откровение. Любовь есть не только сердечное чувство, но и состояние ума: так, можно сказать, что христианская догматика есть порождение любящего разума – никакой другой разум не может познать Бога.
Богословие, как утверждает Д. Робинсон: “Касается последних вопросов о смысле существования, оно касается вопроса о том, каковы на уровне Бога, на уровне глубочайшей тайны, реальность и значение нашей жизни. Мировоззрение, утверждающее эту реальность и это значение в личных категориях, тем самым утверждает окончательную реальность и окончательное значение личных отношений. Оно утверждает, что Бог, последняя истина и глубочайшая реальность, есть Любовь” (Джон А.Т. Робинсон, стр.36).
Высшая степень любви, о которой говорил Иисус в последней беседе с учениками, есть взаимная любовь на уровне онтологической личности, любовь во образ Святой Троицы. Эта, столь редко достигаемая цель, освещает своими лучами все низшие, предварительные виды любви, преодолевая их самодостаточность, делая их ступенями на пути реализации образа Бога в человеке. Акт творения обретает смысл только в свете той Любви, целью которой является полнота собственного бытия Другого: ради этого Творец и вынужден временно скрываться от лица Своего Творения, как бы “освобождая” ему место в бытии.
По образу Бога-Творца человек и сам наделен творческой силой: в отличие от Бога, он ограничен в своих возможностях, но при этом свободен в избрании конечных целей и побудительных мотивов творчества. Свобода человека обеспечена сокровенностью Бога, возможностью для человека создавать такое представление о Боге, которое соответствует действительным устремлениям этого человека. Если человек хочет ответить любовью на любовь, то его творчество превратится в сотворчество, сотрудничество с Богом; если же человек захочет ограничиться лишь само-утверждением, в конечном счете, само-обожествлением, то этой цели и будет подчинена его творческая сила. Путь ложного творчества представлен среди детей Адама родом каинитов. Будущее коренится в прошлом: прометеевский, отчасти каинитский дух нашей цивилизации очевиден – найдутся ли силы у сегодняшних духовных потомков Сифа не только противодействовать нынешним каинитам, но и отнять у них культурную, творческую инициативу?
Если ШЬАШәЫ (Шьяшвы)– действительно первое в истории имя “Бога в силах”, видимого Бога, то это имя должно найти свое отражение в религиозной лексике многих народов, также как и первое имя невидимого Бога АН. Однако, если имя АН легко узнаваемо, отличаясь лишь вариациями гласной, то с именем ШЬАШәЫ, непроизносимом на любом языке, кроме абхазского, дело обстоит сложнее. Прежде всего надо рассмотреть возможные параллели на иврите. Можно построить близкие по звучанию выражения ША-ШВУА, где ША ש: префикс принадлежности, ШВУА שבועה: клятва, т.е. ШАШВУА: Тот, кто клялся (Тот, чья клятва). “Клятва” здесь может означать и эдемский завет с Адамом и проклятие за его грех. Поскольку ША שה: ягненок, кожа, то евр. ШАШВУА может означать также “Клявшийся на коже”, т.е. записавший слова завета на священной коже; вспомним абх. АНЦәА: Бог кожи. Если заменить ШВУА на ШУА שוע: спасать, то евр. ШАШУА: Тот, Кто спасает – аналог имени ЙОШУА ישוע: Йахве спасает (в иврите принято передавать указания на Йахве с помощью одного слога ЙА, ЙЕ, ЙО); с именем ЙОШУА (греч. ИИСУС) сравним абх. ИАШәАУА: Ему (ИА) подобный (АШЪА) человек (УА). Наконец, еще одна ассоциация ШАА: равный, одинаковый, подобный, т.е. ШАШАА: Тот, Кто равен (подобен).
Абазины (как, по-видимому, и убыхи) употребляли божественные имена АНЦәА и ШЬАШәЫ в том же смысле и с тем же звучанием, что абхазы, в наибольшей степени, как мы полагаем, сохранившие первоначальное адамитское произношение. В адыгский язык ШЬАШәЫ вошло в форме УАШО: нарицательное именование бога вообще (Ш.Д. Инал-Ипа). Если это сближение верно, то мы получаем исключительно важную цепочку: адамитское и абхазское ШЬАШәЫ – адыгское УАШО – хаттское ВАШАВ – хурритское и хеттское ТЕШАБ – урартское ТЕЙШЕБА. Появление АВ или АБ связано с тем, что в соответствующих языках это означает “отец”, т. е. ТЕШАБ можно понять как ТЕШ-отец (не от этого ли ТЕШ происходит русское ОТЕЦ? ). Дальнейшая трансформация имени: хеттское ТЕШАБ – греч. ТЕОС Τεως и ДЗЕУС, ЗЕВС Ζεύς; индоиранское ДЬЯУШ и ДЬЯУШ-ПИТАР (общеиндоевропейское ПИТАР: отец, отсюда латинское ЮПИТЕР). Однако за этой цепочкой лингвистических трансформаций обнаруживаются следы крупнейшего религиозного переворота древности. Если у адыгов и хаттов УАШО или ВАШАВ мирно сменяют верховного Бога АН, которого просто забывают, а у латинян он сохраняет почетное место под именем ЯНУСА или ЯНА, то у хурритов, а вслед за ними – у хеттов, греков, урарту вклинивается характерный сюжет последовательного “свержения” богов: АНУ– КУМАРБИ– ТЕШУБ; УРАН– КРОН– ЗЕВС. Первого из богов “оскопляет” и низвергает сын, которого, в свою очередь, свергает следующее поколение. Этот сюжет приоткрывает завесу над какими-то важными событиями начальной истории человечества: в последующих главах нам еще предстоит коснуться таких библейских фигур, как Тувалкаин, Хам, Нимрод.
Потомки Каина известны из Библии как первые металлурги: ТУВАЛ-КАИН ובלקיןת (рим. ВУЛКАН, Vulcanus) – потомок Каина в пятом колене, отмечен как “шлифующий и кующий всякую медь и железо” (Быт. 4:22). Библ. ТУВАЛ можно связать с
абх. ҬАБЛРА: сжечь в углублении – прямое указание на кузню. Термин появляется в абх. проклятии
ШЬАШәЫ УҬЕИБЛААИТ: чтобы ШЬАШәЫ сжег тебя в углублении;
близко по смыслу АРҬәАРА: расплавлять, откуда ҬәЖәЛА или ҬәАЖәЫЛ: м.б. "родоначальник плавителей";
с ТАБАЛ совпадает также абх. топоним ҴАБАЛ (ЦАБАЛ).
У ассирийцев оружейная сталь: ХУБАЛ-КИНУ (т.е. ТУБАЛ-КАИН); греки же называли ее адамас αδαμας: указание на связь с Адамом, отсюда же греч. АДАМАНТ: алмаз; на гипотетическом адамитском языке АДАМАНТ должно означать: принадлежащий Адаму Божию. Связь древней металлургии с родом Каина отражена также в хетт. КУАННА, греч. КИАНОС κηανος: медь.
19. Вокруг металлургических ценностей
Н.Я. Марр пишет: “Создатели металлургических ценностей.... группируются в определенной области яфетического мира, носят хорошо определенные яфетические названия, как то не только ТУБАЛЫ и КАИНЫ (или КАЙНИТЫ), но и халибы и др., в их числе МОСОХИ или МЕСХИ”. Напомним, что мы разделяем позицию Марра при условии замены термина “яфетический” на “адамитский” – очевидно, что в своих лингвистических “раскопках” он углубился в более ранние, дояфетические времена, в предпотопную эпоху. Н.Я. Марр приводит следующую квалификацию “яфетической” языковой семьи: “Первая ветвь – звуки шипяще-свистящие (сибилянты) – делятся на две группы: картскую (грузинский) и тубал-кайнскую (лазский – он же чанский и сванский – мингрельский, в древности иверийский). Вторая ветвь – придыхательные (спирантные), в нее входят три группы: абхазо-адыгская; лезгинская (аварский и др.); чеченская (включая ингушский)”. Хотя у Н.Я. Марра обнаружено много ошибок и необоснованных гипотез, но эта классификация, как и его выделение яфетической языковой семьи, остаются, в основном, не опровергнутыми.
Он, в частности, подчеркивает особую мифологическую роль железа: “Само НЕБО в представлении яфетидов является ЖЕЛЕЗОМ, и яфетическое слово “железо”, при том определенной тубал– каинской (впоследствии иверо-чанской, в более близкие к нам эпохи и ныне мингрело-лазской) формы или формы Ш-группы, успела отложиться в языках Армении... в значении НЕБА” (Н.Я. Марр, стр.103,104). Дополняя соображения Н.Я. Марра, мы должны сказать, опираясь на приведенные выше исследования абхазского кузнечного мифа (В.Г. Ардзинба), что речь должна идти не об одной, но о двух начальных культурах железа, в каком-то смысле противостоящих друг другу.
Для предпотопных потомков Сифа (будем условно называть их протоадыгами, в знак того, что в этой ветви адамитов сохранялся культ праотца АДЫ) железо было прежде всего великой святыней. Его связь с небом объяснялась тем, что первые металлы, с которыми человек имел дело, были самородное золото и метеоритное железо (абх. “пули АФЫ”), причем железо в древности ценилось неизмеримо больше. Вероятно, послепотопные сыны ИАФЕТА, оставаясь жить на земле предков, сохранили традиции сифитов-протоадыгов: поэтому они и стали известны грекам как первые металлурги: ХАБИЛЫ. Это название может происходить как от каинитского ТУВАЛ (ХУБАЛ), так и от АВЕЛЬ (ХЭБЭЛ), почитаемого яфетидами, а производимое ими железо – АДАМАС. Сохранившийся до нашего времени абхазский кузнечный культ рассматривает священные предметы из железа как проявления АНЫХИ – Божественной Энергии, Божественного Присутствия на земле.
Отношение каинитов к металлу было принципиально другим: эти достижения вызывали не священное благоговение перед Всевышним, но чувство гордости своим всемогуществом. В абхазском эпосе влияние каинитов проявляется в образе гордеца АБРСКИЛА, который ради богатырского тщеславия извлекает молнию, рассекая саблей облака – он хотел уподобиться этим Всевышнему. Но тот же Абрскил, защищая родную землю – истребляет рыжеволосых (дурная примета у абхазов), сероглазых, которые могут сглазить, напустить порчу – в этом можно видеть отголосок предания о борьбе с каинитами, физически слабыми, но обладавшими магическими способностями. Абх. АКАН: веснушки – перекликается с именем КАИН (рыжеволосые, как правило, имеют много веснушек), сюда же, как мы уже указывали, вероятно, восходит название племени АЦАН – карликов, колдунов, и, в некоторых вариантах предания, кузнецов. Всевышний АНЦәА запретил АБРСКИЛУ уничтожать рыжеволосых: замечательное совпадение с Быт. 4:15 – “и сделал Господь Каину знак, чтобы не убил его всякий, кто встретит его”. В связи с этим, возможно, появилось древнее абх. выражение КАН БЗИОУП (хороший КАН): сохранить вид, сохранить моложавость. Другой отголосок предания о табуирующем знаке, охранявшем Каина – древнегрузинское представление о НАЦИЛИАНИ: избранных людях, наделенных священными божественными знаками. Знаки обычно находились в скрытом месте – под лопатками или на бедрах; культ НАЦИЛИАНИ нашел отражение в приобщении детей (а также особо – царей и князей) к астральным божествам. Варианты мифа сообщают, что знак был как-то связан с огнем – или он был светящимся, или изображал свечу, солнце и т.п. На Ближнем Востоке сохранилось также предание о способе закалки ДАМАССКОЙ (вероятно, от АДАМАС) стали – в крови или моче рыжего мальчика – параллель с абхазским мифом о “рыжеволосых”.
20. Образ Прометея
Духовная борьба древних людей: за или против каинитской идеологии отразилась в образе Прометея – похитителя небесного огня. Видимо, здесь речь шла не об огне племенного костра или домашнего очага, известном с раннего палеолита, но именно о священном или магическом кузнечном огне для обработки и выплавки металлов. Армянская мифология различает священный, небесный огонь от молнии – и огонь ХУР: низменный, даже греховный, полученный путем высекания из кремня. Само происхождение образа Прометея остается неясным: в этом образе соединены черты нартского героя САСРЫКВЫ, отнимающего огонь у похитителя великана, и абхазского АБРСКИЛА, который прикован к скале в наказание за свое богоборчество. Образ ПРОМЕТЕЯ становится своего рода апофеозом каинитской идеологии – вероятно, каинитскими жрецами этот образ и был создан. Самый древний вариант мифа о Прометее, видимо, надо искать в чечено-ингушском варианте нартского эпоса: герой ПХАРМАТ (чеч.- инг. ПХЬЯР: кузнец) на богатырском коне достигает вершины г. Казбек и похищает головешку из очага СЕЛЫ, бога грозы и молний. Прикованный за это к г. Казбек, ПХАРМАТ страдает не только от ИДЫ, царицы птиц, но и от холода вечных снегов и льдов, собранных СЕЛОЙ со всех горных вершин и ущелий. Здесь можно видеть также отголосок (а, может быть, и первоисточник) иранского мифа о вечной борьбе огня со льдом. Грузинский аналог ПХАРМАТА-АМИРАНИ (АМРАН), восходящий к сванскому (или к лакскому, где появляется имя Амир) эпосу, похищает у бога – громовержца небесную деву КАМАР, олицетворяющую небесный огонь.
В адыгском варианте патриарх (тхамада) нартов НАСРЕН-ЖАЧЕ, напротив, борется с похитителем огня у нартов – богом зла ПАКО. Правда, образ двоится: герой пытается незаконно проникнуть в тайны верховного бога ТХА – в некоторых версиях его приковал к горе сам ТХА, в других – ПАКО. Освободил патриарха и вернул похищенный огонь нарт БАТРАДЗ.
Греческий ПРОМЕТЕЙ – хтонический, доахейский бог, сын титана ИАПЕТА. Греки, с глубокой древности связанные с Кавказом, видимо, заимствовали миф в его вайнахском варианте, заменив непонятное ПХАРМАТ на греч. ПРОМЕТЕЙ προμηθευς мыслящий прежде, предвидящий. Именно греки сделали этот миф, как, в прочем, и многое другое, достоянием мировой культуры. Глубокий знаток древних легенд Эсхил в своей трагедии “Прометей” вкладывает в уста героя слова:
Я всесожженьям смертных научил
И знаменьям глубоким, сокровенным ,
Являемым в пылающем огне.
Прометей находится в сложных отношениях с ГЕФЕСТОМ Ηεφαιστος, богом огня и кузнечного дела. Гефест хром на обе ноги, безобразен, но в жены себе взял богиню любви Афродиту. Для колхидского (!) царя он вырыл четыре волшебных источника, текущих из под виноградной лозы: воды, молока, масла и вина. Он кует оружие и щит герою Ахиллу, делает медных быков для царя ЭЙЕТА (!). Вергилий описывает подземную кузницу Гефеста грандиозных размеров, где куются молнии Зевса. Против своей воли, по приказу Зевса, Гефест приковал Прометея к горам Кавказа. Отмечается, что культ Прометея более древний, чем культ Гефеста. Поскольку в связи с Гефестом постоянно упоминается Колхида, а римские легенды называют его ВУЛКАНОМ, это дает основания отождествить его с библейским ТУВАЛ-КАИНОМ.
Согласно Эсхилу, Прометей увидел, что человек по сравнению с животными “беспомощен, наг, не обут, без ложа и без оружия”; чтобы помочь ему, он крадет искусство огня у олимпийского кузнеца ГЕФЕСТА, искусство шитья одежд – у Афины. Прометей наделил разумом слепых, жалких людей, живших как муравьи в пещерах, научил их строить дома, корабли, шить одежду, считать, читать и писать, различать времена года и т.д.
Во всем этом можно усмотреть самое древнее проявление духа самозванства, присвоения себе чужих достижений: вся монотеистическая традиция утверждает, что подобным учителем человечества был патриарх ЕНОХ. Следы этого предания сохранились и у Эсхила: единственное, чего не смог Прометей – это научить людей правилам совместной жизни; стыд и правду вложил в людей не он, а ГЕРМЕС, которого древняя традиция отождествляет с ЕНОХОМ. Но каинитские обвинения в адрес Творца, перенесенные, правда, на Зевса, продолжаются: Бог, якобы, не захотел заниматься исправлением и совершенствованием людей, а решил уничтожить их потопом. Восстановление нового человеческого рода приписывается тому же Прометею, а не патриарху НОЮ: якобы, именно сын Прометея ДЕВКАЛИОН, спасшийся от потопа, создает людей бросая за спину камни. Достойно внимания это упоминание о “камнях”: намек на адамитское “таинство камня”, таинство инициации, сотворения человека из преадамитов. Каиниты, как потомки Адама, должны были владеть этим таинством, но, потеряв Божественное благословение, превратили его в магический обряд, связанный, скорее всего, с огнем и кузнечным делом. Каинитские жрецы (кто-то из них тоже, вероятно, спасся от потопа) “создавали” людей, частично обладавших адамитской творческой силой, но проникнутых атеистическим, богоборческим духом. Несомненно, что этот дух имеет значительное влияние в современной цивилизации, одновременно творческой и атеистической по существу. Известен язвительный ответ математика и астронома Лапласа на вопрос Наполеона, верит ли он в Бога: “Сир, я в этой гипотезе не нуждался”. На вопросе о природе атеизма стоит остановиться подробней.
Прежде всего необходимо сказать, что сомнение в бытии Бога, вызванное возросшими требованиями ума и сердца, по сути своей не является антирелигиозным актом, но служит необходимым этапом на пути религиозного взросления. Эту мысль со всей свойственной ему энергией высказывает Иван Ильин:
"Религиозное сомнение само по себе не есть соблазн и совсем не предвещает конца религии... Сомнение отдаляет религиозное детство и, может быть, религиозное отрочество от зрелой поры, от веры мужественной, крепкой и окончательной. Оно не соблазн, а горнило, не конец религии, а обновление и углубление. Отмахиваться от него значит нарочито длить своя детскую беспомощность, т.е. умалять силу веры и победу религии... Чтобы его преодолеть, надо в нем побывать; не преодолевший его сохраняет уязвимые места своей религиозности, которые могут раскрыться в труднейший час жизни и привести его к духовному крушению".
Искреннее сомнение, движимое жаждой неподдельной достоверности в самом главном для человеке вопросе, становится конструктивным и созидательным действием:
"'В религиозном сомнении человек уже одержим тем самым Предметом, в котором он сомневается и о котором все еще не решается сказать – ни "да", ни "нет". Эта одержимость сама по себе до наступления религиозной очевидности и без нее – религиозное событие: это есть подлинный и драгоценный духовный опыт, он строит личный дух и определяет судьбу его носителя. В религиозном сомнении человек приобретает некий спектр жизни и бытия. Это сомнение столь подлинно и интенсивно, что сомневающийся дух находит в нем подлинную сердцевину своей жизни: свою духовную любовь и свою духовную воли"
(И.А.Ильин, стр. 192, 197)
21. Почему так трудно верить в Бога?
Среди создателей современной культуры было множество одаренных и благородных людей, которые отвергли как преступные внушения преисподних сил, так и лукавые нашептывания “князя, господствующего в воздухе”, но при этом попали во власть скептического, недоверчивого настроения, замкнутого на материальном мире и на человеке с его приземленными текущими проблемами. При этом теряется из виду вся перспектива человеческого развития, картина жизни замыкается в узкий промежуток между рождением и смертью и никакие реальности духовного мира не принимаются всерьез. Одним из самых подходящих занятий при таком настроении становится ироническая критика Творца, хотя и “несуществующего”, за нелогичность, непоследовательность и безрезультатность Его планов и действий. Нелепость бытия служит, таким образом, доказательством того, что никакого Творца нет; при этом автор критики неосознанно подразумевает, что на месте Творца он бы все сделал лучше – нам, однако, неизвестен ни один случай, когда эта мысль была бы продумана всерьез и до конца.
Поскольку наша книга посвящена “земле Адама”, то нам кажется уместным привести здесь некоторые размышления одного из лучших сынов этой земли, впавшего однажды в подобное настроение и со свойственным ему тонким психологизмом посвятившего в него своих читателей. С этой целью приведем достаточно обширную выдержку из всемирно известного романа Фазиля Искандера “Сандро из Чегема”:
“В этот еще свежий зной, в этот тихий однообразный шелест папоротников словно так и видишь Творца, который сотворил эту Землю с ее упрощенной растительностью и таким же упрощенным и потому, в конце концов, ошибочным представлением о конечной судьбе ее будущих обитателей, так и видишь Творца, который пробирается по таким же папоротникам вон к тому зеленому холму, с которого он, надо полагать, надеется спланировать в мировое пространство.
Но есть что-то странное в походке Творца, да и к холму этому он почему-то не прямо срезает, а как-то по касательной двигается: то ли к холму, то ли мимо проходит...
А-а, доходит до нас, это он пытается обмануть назревающую за его спиной догадку о его бегстве, боится, что вот-вот за его спиной прорвется вопль оставленного мира, недоработанного замысла:
- Как?! И это все?!
- Да нет, я еще пока не ухожу, – как бы говорит на всякий случай его походка, – я еще внесу немало усовершенствований...
И вот он идет, улыбаясь рассеянной улыбкой неудачника, и крылья его вяло волочатся за его спиной. Кстати, рассеянная улыбка неудачника призвана именно рассеять у окружающих впечатление о его неудачах. Она, эта улыбка, говорит: “А стоит ли так пристально присматриваться к моим неудачам? Давайте рассеем их на протяжении всей моей жизни в виде цепочки островов с общепринятыми масштабами: на 1000 подлецов один человек”...
Творец наш идет себе, улыбаясь рассеянной улыбкой неудачника, крылья его вяло волочатся за спиной, словно поглаживая кучерявые вершины папоротниковых кустов, которые, сбросив с себя эти вяло проволочившиеся крылья, каждый раз сердито распрямляются. Кстати, вот так же вот в будущем, через каких-нибудь миллионы лет , детская головенка будет сбрасывать руку родителя , собирающегося в кабак и по этому поводу рефлексирующего и с чувством тайной вины треплющего по голове своего малыша, одновременно выбирая удобный миг, чтобы улизнуть из дому, и она, эта детская головенка, понимая, что тут уже ничего не поможет, отец все равно уйдет, сердито стряхивает его руку: “Ну и иди!”
Но все это детали далекого будущего, и Творец наш, естественно, не подозревая обо всем этом, движется к своему холму все той же уклончивой походкой. Но теперь в его замедленной уклончивости мы замечаем не только желание скрыть свое дезертирство (первое в мире), но отчасти в его походке сквозит и трогательная человеческая надежда: а вдруг еще что-нибудь успеет, придумает, покамест добредет до своего холма.
Но ничего не придумывается, да и не может придуматься, потому что дело сделано, Земля заверчена, и каждый миг ее существования бесконечно осложнил бы его расчеты, потому что каждый миг порождает новое соотношение вещей и каждая конечная картина никогда не будет конечной картиной, потому что даже мгновенья, которое уйдет на ее осознание, будет достаточно, чтобы последние сведения стали предпоследними...Ведь не скажешь жизни, истории и еще чему-то там, что мчится, омывая нас и смывая с нас все: надежды, мысли, а потом и самую плоть до самого скелета,– ведь не скажешь всему этому: “Стой! Куда прешь?! Земля закрыта на переучет идей!”
Вот почему он уходит к своему холму такой неуверенной, такой интеллигентной походкой, и на всей его фигуре печать самых худших предчувствий(будущих, конечно), стыдливо сбалансированная еще более будущей русской надеждой: Авось как-нибудь обойдется... (Фазиль Искандер, стр. 406-408).
22. Немного поспорим с Искандером
Велика все-таки, сила художника!
Пока трудолюбивая мысль связывает концы с концами, да еще проверяет на прочность каждую нитку, или строит здание, тщательно подгоняя один камень к другому, легкокрылая эмоция, мимолетный образ, нисколько не заботясь о скучной логике, выпархивает из головы художника и так же беззаботно поселяется в сердце читателя или зрителя. И вот так, на скорую руку свитое в сердце гнездо оказывается порой более живучим и долговечным, чем тяжеловесные построения разума. Грустно вздохнув о нашей неспособности состязаться с Мастером на его же поле, прибегнем все к той же логике, которая хотя и не в чести в повседневной жизни, но без которой, что ни говори, ни дом не построишь, ни детей не воспитаешь, ни книжку не напишешь.
И первое, что нас удивляет в рассуждениях столь дорогого нам человека: предъявляя претензии к Творцу по поводу папоротников, он почему-то забывает, что главным делом и главной заботой Творца служат вовсе не папоротники, а сам Фазиль Искандер с тончайшими движениями его души, с его жизненной драмой, с его мучительными усилиями выбраться из тупика скептических мыслей. И вот тут мы никак не можем согласиться с уважаемым Фазилем, что Творец оказался неудачником; Бог с ними, с папоротниками, но один такой успех оказывается важнее целых зарослей даже и вполне удачной, совсем неоднообразной и очень сложной растительности. А то, что на тысячу подлецов один человек, то это, во-первых, не так уж мало, а во-вторых, каждый подлец тоже немножко человек, а для кого-то близкого совсем даже и не плохой человек! Здесь так и просится на язык, что каждый честный человек, хоть иногда, хоть раз в жизни, но бывает немножко подлецом – даже вот и святейший апостол Петр. Ну представим себе, что на тысячу честнейших людей приходился бы только один подлец – да его нарасхват приглашали бы на все застолья как драгоценную диковинку. А если бы вообще все люди оказались идеальными, честнейшими и совершенными с самого начала! Впрочем, с какого начала? С начала нашей эры или с каменного века? Со школьной скамьи или с первых слов, или со дня появления на свет? Или, может быть, с того сокровенного момента, когда две родительские клетки образовали таинственную завязь, из которой потом непостижимым образом вырастают писатели и их критики? Если мы представим себе, что все было создано идеальным и законченным с самого начала, то не понадобилось бы никакой истории, никакой борьбы, никакого томления по недостижимому пока совершенству. Но само это томление откуда-то взялось же в нас, столь несовершенных и ограниченных, с больным телом и страдающей душой.
И если бы апостол Петр никогда не предавал Учителя, то разве чем-то не обеднела его вечная душа, если бы из нее ушла память о драгоценном, хоть и горьком, миге раскаяния. Наш непревзойденный оппонент, конечно, не упустит нашу оплошность и скажет: Ага, и вы вступили в мир русских пословиц: не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься! На это мы ответим, что вовсе не оправдываем ни предательства, ни любой другой грех, но мы оправдываем Творца (это оправдание нужно не столько Ему, сколько нам), Который сотворил человека, способного грешить или не грешить, способного быть подлецом или быть честным, способного исправлять свои ошибки или продолжать доказывать правоту своей неправды.
Нам, конечно, трудно посмотреть на мир глазами Творца и хоть немного вникнуть в Его проблемы, которые мы для Него с такой щедростью создаем. Но у нас все же есть дети, которые столь же неутомимо создают для нас проблемы, как мы для своего Творца. И положа руку на сердце, скажем: неужели мы были бы счастливы, если бы наши дети всегда, без малейшего исключения были правильными и безупречными и всегда хотели бы и делали только то, что хотим и ждем от них мы? С другой стороны, хорошо ли было бы для наших детей, если бы мы немедленно исполняли всякое их желание? Тогда из них выросли бы не только подлецы, но люди, не способные вообще ни к чему стремиться и ничего исправлять. И если малыш сердится на отца за то, что тот уходит в кабак, то ведь он точно так же сердится, когда отец запирается в кабинете, чтобы писать книжку, или уходит в союз писателей, чтобы эту книжку обсуждать.
Надо признать, что наш оппонент все-таки делает попытку войти в заботы Творца, но делает это, на наш взгляд, не очень удачно. По его мнению, Творец не в состоянии справиться с гераклитовой проблемой: какая может быть истина и как внести в жизнь что-то разумное, если все течет, все изменяется и нельзя дважды вступить в одну и ту же реку? Конечно, мы могли бы уйти от ответа, сказав: если мы чего-то не понимаем, то это еще не значит, что это невозможно. В конце концов Творец, создавший само время с его прошлым, настоящим и будущим, как-нибудь справится с этой проблемой, тем более что для своего времени неплохо с ней справился и Гераклит. Если Бог и создал камень, который Он Сам не в состоянии поднять – то это человек, особенно такой мудрый как Искандер; надеемся, впрочем, что и этот камень Он поднимет и сумеет разобраться даже со всеми нами. Но мы с нашим собеседником Фазилем уже не в том возрасте, чтобы удовлетворяться такими, хотя и справедливыми, сентенциями, указывающими на нашу ограниченность. Так вот, даже и в нашей ограниченности будет неверно утверждать, что прошлое – это то, чего уже нет, а будущее – это то, чего еще нет. На самом деле, прошлое для нас отчасти тоже есть – благодаря чудесному дару памяти; будущее тоже отчасти есть уже сейчас – благодаря способности предвидения. Так что даже мы отчасти способны оценивать прошлое, исправлять настоящее и разумно планировать будущее: конечно, у нас, в отличие от Бога, все “отчасти”.
Кстати, возникает впечатление, что многоопытный Мастер на этот раз ошибся и Творца с кем-то перепутал. Мы привели основные библейские образы Бога и ни в одном из них не находим, например, крыльев. Может быть, уроженец Чегема, погружаясь мистической памятью и художественным воображением в далекое прошлое своих родных эдемских холмов, увидел не Творца, но одного из тех ангелов, которые упорно занимаются не своим делом и поэтому действительно оказываются хроническими неудачниками. Меткое указание художника на “неуверенность и интеллигентную походку” позволяет думать, что он принял за Творца того ангела – скептика, который с самого начала был недоволен самой идеей сотворения человека и все время пытается переделать мир по-своему, “лучше и справедливее”, чем это сделал настоящий Творец. Конечно, каждый волен выбирать себе друзей, но нам все же кажется, что это не совсем подходящая компания для Искандера, с его подлинно адамитской творческой мощью, с его реализмом и человечностью, с его чуткой совестью и кровной привязанностью к родной земле.
И нам, более чем кому-либо, понятно благородное нетерпение Фазиля, который не хочет мириться с болезненным состоянием мира, в котором все еще господствует смерть, “смывая с нас все: надежды, мысли и самую плоть до самого скелета”. Если это действительно так и если нет бессмертия души и воскресения тела, если мир не идет к тому, чтобы стать Божьим царством, то мы поневоле присоединились бы к столь горькой оценке Фазиля о неудаче творения. Как говорил еще апостол Павел, “если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков” (1Кор. 15:19). Добавим от себя: сколь же несчастен человек, который не надеется на Христа даже в этой жизни. И сколь же велика адамитская сила духа, разбуженная в человеке Творцом, если даже при таком безнадежно-унылом состоянии ума он сохраняет в себе лучшие человеческие стремления и чувства, с такой щедростью излитые на весь мир в бессмертных творениях Фазиля Искандера: “Стоянка Человека”, “Созвездие Козлотура”, “Сандро из Чегема”. Но за нежеланием поверить в Творца нередко скрывается какая-то глубокая и затаенная личная обида, оскорбленная гордость. Каждый из нас порой накапливает подобные обиды и затем предъявляет за них высший счет обществу, миру, бытию в целом или даже Самому Богу.
Завершая наше несколько затянувшееся отступление, скажем несколько слов и в защиту не совсем справедливо задетого папоротника. Во-первых, это один из самых ранних опытов Творца, одно из самых древнейших растений, современник молодого и совсем незрелого мира, в котором еще даже не было динозавров. Как один из первых набросков, он, может быть, не так уж и плох: дивные каштаны и кедры появятся позже, но ведь не все сразу – и не будь в свое время папоротника, не появилось бы и все последующее.
Наконец, когда Фазиль в окружении друзей будет потягивать из хрустального бокала молодое красное вино “амачар”, мы позволим себе почтительно напомнить ему, что это вино процежено через все тот же скромный непритязательный папоротник.
23. Назойливый хриплый голос
С сожалением завершая наш заочный спор со столь благородным оппонентом, мы вынуждены перейти к оппонентам менее благородным, ибо все резче и настойчивей звучит их назойливый, хриплый голос.
Если для людей с пантеистическим мировосприятием идея творения непонятна, то для пророков “Абсолютной Революции” эта идея глубоко ненавистна. Уже упоминавшийся А.Г. Дугин от имени всей своей традиции бросает открытый вызов:
“Идеология Творец-Творение или креационизм во всех своих формах и вариациях всегда противоположна гностическому подходу “полярно-райской” идеологии, которой тематика Творения или несовпадение Творца и Твари вообще чужда. Собственно, между этими двумя типами мировоззрения и проходит основная линия идеологической борьбы в истории... Как предельная форма – антиклерикализм гнозиса и концепция Злого Творца, Злого Демиурга. Концепция Злого Демиурга основывается на том, что, если факт разделения на Творца и Творение по тем или иным причинам нельзя более не признавать, от этого ни Творец, ни Творение не становятся духовно позитивными, а значит, и сам этот Творец никто иной, как Злостный Узурпатор, а Творение ничто иное, как злая, временная иллюзия, завеса над Раем”
(А. Дугин, стр. 88-89).
24. Под видом ненависти к евреям – ненависть к адамическому человечеству
Носители “полярно-райской” (в нашем понимании – антихристовой) идеологии объявляют, таким образом, беспощадную войну верующим сынам Адама – за то, что они продолжают верить в Бога, Который Адама сотворил. Запредельная, метафизическая ненависть к евреям оказывается, по существу, выражением ненависти преисподней к “еврейскому Богу”, т.е. к Яхве, к Иисусу в Его Божественной природе. Водораздел, однако, не проходит между религиями и народами: он проходит внутри религий и народов. Дух Абсолютной Революции находит себя и в манихейских традициях христианского общества, и в неоплатонизме иудейской каббалистики, и в некоторых формах шиитского эсхатологического культа “скрытого Имама”.
“Обе идеологические позиции – продолжает А. Дугин – “Творец-Творение” и “Рай-Полюс” часто сосуществуют в рамках одного и того же Общества, в рамках одной и той же политической системы. Однако это никоим образом не отменяет гигантского различия, существующего между ними. Эти идеологические типы непримиримы, как огонь и вода, как свет и тьма, и именно между ними происходят такие жестокие схватки (альбигойский крестовый поход, фатимидский халифат, войны гвельфов и гиббелинов, французская революция и т.д.), которые немыслимы между представителями разных традиций, разных религий и разных политических систем” (там же, стр. 92).
Но более всего ненавистен для “сверхчеловеков” сам человек, духовный потомок Адама. Праотец Адам изображается ими в виде злобной карикатуры: как ожившая кукла, как метафизический робот, как прототип Голема – фантастического чудовища средневековой кабалистики.
“Идея Голема имеет универсальную значимость, и ее изучение может дать нам ключи к пониманию некоторых фундаментальных основ монотеизма и креационизма, – пишет все тот же автор. Центральность онтологической позиции Адама в монотеизме авраамического типа очевидна. Концепция “Голема” – это в первую очередь концепция “грубой формы”, оживляемой чем-то сущностно внешним по отношению к ней самой, чем-то приходящим со стороны и уходящим снова. И в этом смысле “големичность” Адама – это синоним его “земной природы”, его происхождения “из праха”, его подчеркнутой и сугубой тварности” (там же, стр. 252).
Нет ничего более трудного для постижения, чем основополагающий библейский догмат творения! И немногие постигают его! Метафизическая ярость Дугина и ему подобных питается глубинным сознанием своей религиозной ущербности. Между тем, ни в каком человеке на самом деле подобной ущербности нет: есть лишь страх и нежелание сделать решающий шаг, совершить онтологический поступок – акт веры, абсолютно свободный и в каком-то смысле безумный.. Здесь необходимо поверить в то, что человек абсолютно не способен ни помыслить, ни вообразить: в то, что свобода может быть сотворенной. Между тем, творение, не обладающее свободой, вообще не есть творение, но лишь продолжение или эманация своего творца. Вся суть именно в том, что Бог сотворяет независимое от Себя бытие в лице человека, наделяя его той свободой, которой обладает изначально только он Сам. Сотворенный Богом свободный человек совсем не похож на механическую куклу. Он похож на Самого Бога.
Вот как пишет об этом Виктор Аксючиц:
"Человек свободен как никто в тварном мире. Его свобода простирается до свободы отказа от своего назначения и принятия небытия. Бремя свободы обрекает человека на трагическое одиночество в мироздании. Вся тварь спасается страдательно и зависит от человеческого выбора. Но даже на Бога не может человек переложить свой выбор: предвидение Божие не означает предопределения человеческой судьбы. Все, что творчески совершается человеком – впервые привносится в мир, и эта новизна определяет сущность всего мироздания. Какое трагическое и тягчайшее бремя – быть свободным как Бог! И какая беспредельная ответственность!" (В.Аксючиц, стр. 255).
Если мы не можем постичь, как Бог сотворил свободу, то мы можем догадываться о том, как много для него означает факт существования этой свободы.
Библейско-христианская традиция исходит из того, что в силу своей бесконечной любви Всевышний умалил, “сократил” Самого Себя, сотворив рядом с Собой мир и предоставив ему право и необходимые силы для самостоятельного существования. Себе Он оставил лишь надежду на то, что в лице человека этот мир по собственной воле придет к своему Создателю. В этом смысле присутствие Бога на земле всецело обусловлено существованием Адамова рода. Враг понимает это и устами своих пророков возглашает: “Много стало людей. Слишком много стало людей” (Ф. Ницше). Развивая эту мысль, А. Дугин, со всей серьезностью призывающий к ядерному терроризму, дает понять, что уничтожение Адамова рода или, по крайней мере, резкое сокращение числа ненужных людей, будет равносильно уничтожению Самого ненавистного Творца или, по крайней мере, изгнанию Его с нашей земли:
“Многие версии талмудических легенд неизбежно оканчиваются катастрофой, фатальной не только для самого Голема, но, что гораздо важнее, для его создателя (Создателя! – авт.). Если продолжать развивать параллель между творением Адама Богом и конструированием Големов раввинами, не будет ли гибель раввина под обломками рухнувшего глиняного гиганта (Адам: “человек из глины”! – авт.), выросшего до неимоверных пропорций, аналогом “Смерти Бога”, в отношении которой Ницше уточнял: “Бог умер. Мы убили его. Вы и я”. И сам рост Голема, не напоминает ли он демографический рост населения, действительно сопровождающийся, в той или иной степени, непременной “атеизацией”? (там же, стр.252).
Идея любви, составляющей сущность Бога, у врага отсутствует. Через одно из своих “человекоорудий” он клевещет: любовь – это “месть чандалы” (чандала – то же, что “пария”, отверженный, плод смешения каст), любовь – психологический яд, предназначенный для ослабления воли к власти у представителей высшей касты (Ф. Ницше). Преследуя совсем другие цели, враг невольно приносит нам пользу, побуждая глубже осознать величие Божественной Любви. Творец, лишенный подлинной любви к своему творению, действительно представлял бы собой кукольного мастера, который забавляется игрой сконструированных марионеток: возможно, нечто подобное действительно имеет место в каинитской магической традиции. Такое творчество не означало бы ничего большего чем самореализация, расширение личности мастера за пределы самой себя.
25. Уникальность Библии
Образ Всевышнего как “кузнеца” имеет фундаментальное значение в религии, восходящей к Адаму. Суть этой религии не столько в монотеизме, т.е. в представлении о единственности Бога, сколько в креационизме, т. е. в представлении о сотворенности мира этим Богом. Творение противопоставлено здесь рождению: множество языческих религий говорят именно о рождении, т.е. о происхождении мира из сущности Творца. Поскольку рожденное от Бога есть Бог, то из идеи рождения вытекает своего рода “монотеистический пантеизм”: все существующее божественно по природе, мир есть Бог или, по крайней мере, часть Бога, Его тело, Его эманация, форма Его собственного бытия. Это и есть основной догмат, объединяющий круг современных религий, известных под названием учений “Новой Эры” (Нью-Эйдж). Этот основной догмат не всегда высказывается прямо, но подразумевается как нечто очевидное само по себе.
Уникальность библейской религии, которая есть продолжение и развитие религии Адама, состоит именно в догмате творения, который выражен в первых же словах книги Бытия: “В начале сотворил Бог небо и землю” (Быт. 1:1) и, проходя красной нитью сквозь весь текст Священного Писания, подтверждается в словах заключительной главы Откровения Иоанна, которой заканчивается вся Библия: “Се, творю все новое” (Откр.21:5). Без веры в творение нет никакого христианства, но лишь очередная разновидность язычества. Мир сотворен Богом из чего-то, что возникло лишь как результат действия Его творческой воли. Мир, по воле Творца, есть изначально “другой” по отношению к Нему: именно в этом заложена возможность для мира когда-нибудь вступить в свободные отношения с Богом. Способность вступать в отношения свойственна только личности: возведение мира на личностный, человеческий уровень есть высшая цель мировой эволюции – такой вывод с необходимостью вытекает из догмата творения. Религии же, в которых мир объявляется эманацией Бога, вовсе не возвышают человека, как это может показаться на первый взгляд – но, по существу, отрицают его статус как самостоятельной по отношению к Богу личности. Именно в этом статусе, по мнению митр. Иоанна (Зизиуласа) коренится источник и человеческого творчества:
“Бытие личности есть источник созидательности .... мы свободны не по отношению к кому-либо, а для кого-либо другого, не такого, как мы. Это делает личность экстатичной (греч. ЭК-СТАТИК; И.З.), т.е. такой, которая выходит из своих собственных границ и превосходит их. Этот выход не должен быть понимаем как движение к неизвестному или бесконечному; это движение – утверждение.
Этот порыв личности к утверждению “инакового” настолько силен, что не ограничивается иным, которое уже существует, но имеет целью также утвердить “иное”, которое было бы проявление чистой благости личности. Как Бог сотворил мир по своей благости, так и личность хочет сотворить свое собственное иное. Все это – предмет искусства. Только Личность может быть художником в истинном значении этого слова, т.е. творцом, который в акте свободы и общения формирует совершенно иное. Жить в Церкви в общении с другими означает вследствие этого – творить культуру. Православная Церковь всегда была созидательна в культурном плане” (И.Зизиулас, стр.19-20).
26. Бог есть любовь
Все авраамические религии, во многом не соглашаясь друг с другом, единодушно свидетельствуют о главном. “Любовью вечной Я возлюбил тебя” (Иер. 31:3) – говорит Бог устами еврейского пророка (см. также Исх. 34:6-7); “Аллах милостивый и милосердный” – не устает повторять Коран; “Бог есть Любовь” (1 Ин. 4:8) – утверждает христианство. В современной культуре понятие любви сводится к чувственному влечению, романтическим грезам или в лучшем случае к сердечной привязанности, включая любовь между членами одной семьи или рода. Все это, однако, лишь смутные и несовершенные прообразы, но в то же время и подготовка к той любви, о которой говорит Откровение. Любовь есть не только сердечное чувство, но и состояние ума: так, можно сказать, что христианская догматика есть порождение любящего разума – никакой другой разум не может познать Бога.
Богословие, как утверждает Д. Робинсон: “Касается последних вопросов о смысле существования, оно касается вопроса о том, каковы на уровне Бога, на уровне глубочайшей тайны, реальность и значение нашей жизни. Мировоззрение, утверждающее эту реальность и это значение в личных категориях, тем самым утверждает окончательную реальность и окончательное значение личных отношений. Оно утверждает, что Бог, последняя истина и глубочайшая реальность, есть Любовь” (Джон А.Т. Робинсон, стр.36).
Высшая степень любви, о которой говорил Иисус в последней беседе с учениками, есть взаимная любовь на уровне онтологической личности, любовь во образ Святой Троицы. Эта, столь редко достигаемая цель, освещает своими лучами все низшие, предварительные виды любви, преодолевая их самодостаточность, делая их ступенями на пути реализации образа Бога в человеке. Акт творения обретает смысл только в свете той Любви, целью которой является полнота собственного бытия Другого: ради этого Творец и вынужден временно скрываться от лица Своего Творения, как бы “освобождая” ему место в бытии.
По образу Бога-Творца человек и сам наделен творческой силой: в отличие от Бога, он ограничен в своих возможностях, но при этом свободен в избрании конечных целей и побудительных мотивов творчества. Свобода человека обеспечена сокровенностью Бога, возможностью для человека создавать такое представление о Боге, которое соответствует действительным устремлениям этого человека. Если человек хочет ответить любовью на любовь, то его творчество превратится в сотворчество, сотрудничество с Богом; если же человек захочет ограничиться лишь само-утверждением, в конечном счете, само-обожествлением, то этой цели и будет подчинена его творческая сила. Путь ложного творчества представлен среди детей Адама родом каинитов. Будущее коренится в прошлом: прометеевский, отчасти каинитский дух нашей цивилизации очевиден – найдутся ли силы у сегодняшних духовных потомков Сифа не только противодействовать нынешним каинитам, но и отнять у них культурную, творческую инициативу?